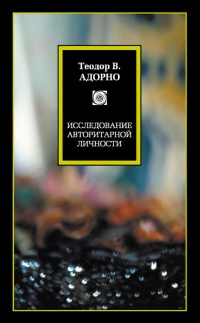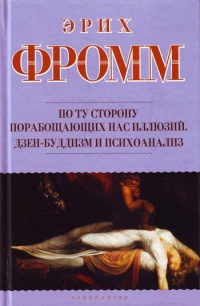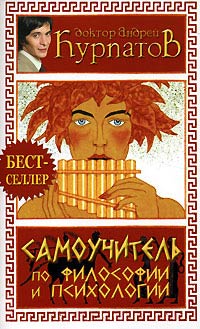Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70
Введение
Замысел этой книги был связан с несколькими общими идеями. Ближайшая из них очевидна: немецкий философ Эрнст Блох (1885–1977) остается «великим немым» для отечественной историко-философской литературы, а связанная с ним интеллектуальная традиция (Лукач, Беньямин, отчасти Адорно и другие авторы) так и не стала частью российского интеллектуального ландшафта и по-прежнему чужда большинству тех философов, кто пишет по-русски.
Такое невнимание обусловлено не только отсутствием хороших переводов[1], но и общей инерцией разочарования неомарксистской философией культуры[2] вкупе с повальным увлечением русской мыслью Серебряного века (которая, кстати говоря, не имеет ничего общего с иудейским мессианизмом и неортодоксальным марксизмом Блоха лишь на первый взгляд). Десятки диссертаций, посвященных Хайдеггеру, и робкие взгляды в сторону аналитической философии, которая уже давно распространена в Европе, – вот ситуация, характерная для большинства философов конца 1990-х – начала 2000-х годов. Утопия? Социализм? Sauve qui peut! На фоне немногочисленности тех, кому в принципе близки философские проблемы и интересы, и постоянно возобновляющихся усилий по развенчанию коммунистической идеологии историко-критические приоритеты, казалось бы, выстроились.
Однако и логика развития философии XX в., и общие духовные запросы, конечно, разнообразнее. Запоздалая публикация в 2003 г. знаменитой книги молодого Георга (Дьёрдя) Лукача «История и классовое сознание», ставшей для Блоха важным ориентиром, выход в свет в 2006 г. известного сборника Лукача «Душа и формы», появление из архивного небытия все новых текстов М.А. Лифшица, крупнейшего советского специалиста по марксистской эстетике, – все это свидетельствует о таком разнообразии.
Предлагаемая книга – еще один шаг в этом направлении. Но не хотелось бы, чтобы в ней искали очередное подтверждение «актуальности» или воспринимали ее как орудие доморощенной, плоской политической полемики. Философия, редко отказываясь от такой полемики, тем не менее никогда к ней не сводилась. К тому же автора тексты Блоха впервые заинтересовали не столько темами, сколько своим риторическим обаянием, проникновенным, страстным слогом и амбициозностью. Чистый аффект сочетается у Блоха с изысканной формой философской прозы, требующей серьезных герменевтических усилий. Собственно, результаты этих опытов чтения, расшифровки, неизбежной фасцинации и неизбежного же критического осмысления представлены здесь на суд читателя.
На Западе книги, посвященные философии Блоха, выходили многократно и на разных языках. Есть исследования и на русском[3]. Особенность этой новой работы, помимо прочего, – внимание к контекстам. Главные из них связаны с тремя друзьями-врагами Блоха, без которых его философия в том виде, в каком она сложилась, вряд ли была бы возможна. Это Георг Лукач, Вальтер Беньямин и Теодор Адорно[4] – создатели образцов леворадикальной философии и эстетики. Все они испытывали, как и Блох, трудности, пытаясь встроиться в академическую немецкую философию 1920-х годов. И все они впоследствии, как это, впрочем, часто бывает, оказались главными героями философской истории ХХ в. Но главное – у них были общие темы, общий горизонт, они ориентировались в культуре по одним и тем же картам. Проясняя, как и почему они спорили с Блохом, чем обязан он их мышлению и каковы были их совместные устремления, мы следуем «слепыми тропами» его утопической философии и становимся способны разглядеть за ней несколько больше, чем позволяют стандартные руководства и энциклопедии.
Начнем мы с характеристики философии Блоха в целом, которая будет направлена на выявление общих и наиболее важных мотивов его мышления. Хронологических различий, которые, разумеется, важны сами по себе, здесь делаться не будет, потому что цель главы I – составить общее представление о том, что в философии так занимало Блоха и каков был его вклад в историю мысли. Потом в главе II речь пойдет о Лукаче и о тех его темах, с которыми так или иначе соприкасался Блох, – метафизических, эстетических и политических. Особенность этой главы в том, что в ней намеренно почти не обсуждаются «дебаты об экспрессионизме» – поворотный пункт в истории марксистской эстетики, – поскольку помимо Лукача и Блоха в них принимали участие и другие авторы, в частности Брехт, и серьезный разбор аргументов с восстановлением контекстов обернулся бы новой книгой, в пользе которой к тому же – ввиду наличия множества компетентных работ на всех европейских языках – у меня большие сомнения. В главе III в центре внимания окажется мессианизм Блоха и то, какие именно идеи и верования стали основой «революционного гнозиса» (именно так назвал сам Блох свою раннюю философию). Эта историографическая прелюдия совершенно необходима для того, чтобы последовательно обсудить тематику мессианизма в соотнесении с философией истории Беньямина в главе IV, где описаны также интересные общие мотивы, сближавшие Блоха с Беньямином. Области мысли, где их встречное движение прерывается и наталкивается на принципиальные разногласия, как правило, очень плодотворны, прежде всего для прояснения логики мессианизма. Наконец, краткая глава V посвящена Блоху и Адорно. Как и в случае с Лукачем и Беньямином, обсуждение общих тем становится одновременно обсуждением внутренних трудностей утопической философии и служит ее конкретизации.
Здесь необходимо сделать несколько методологических замечаний. Большим искушением для историка философии – торговца чужими смыслами – была бы осознанная имитация текстов «героя», вживание в роль и переиначивание собственных размышлений с использованием стилистики и ходов мысли философа (в случае Блоха – мыслителя с отчетливо выраженным, самобытным стилем – такое заимствование несложно осуществить). Другая крайность – отстраненное наукообразное пережевывание общеизвестных фактов и скрупулезное сопоставление мелочей. Такая ученая «жвачка» оказывается на поверку столь же несъедобной, сколь и беспомощное копирование оригинала, мало или вовсе не способствующее его пониманию. Исключения редки и лишь подтверждают правило. Избежать этих крайностей, по-видимому, мало кому удается, в частности, потому, что и вдохновенные писатели, и академически настроенные исследователи, приняв ту или иную форму изложения, притязают не только на новаторство и «творческое переосмысление» каких-то идей, но и на аутентичное прочтение. И если в этой книге мне не удастся отыскать какую-то третью форму, то, по крайней мере, проясняя сущность и контексты философии Блоха, я надеюсь показать, чем занимательна и поучительна эта философия.
И все же – не окажется ли такая работа начетничеством? Второстепенным, никому не нужным пересказом текстов философа, который и так все сказал? Часто такому пересказу противопоставляют некий «подлинный», «живой» философский опыт, опыт суверенной, свободной мысли, творчества, магического проникновения в предмет и т. д. – в зависимости от тех традиции и горизонта, к которым принадлежит говорящий. Но у меня такая оппозиция вызывает подозрение. Первое, что бросается в глаза, – необходимость освоения чужих идей не только для того, чтобы разобраться в проблеме, но и для того, чтобы она вообще возникла. Для философа нет проблем вне смыслового пространства философских традиций, классических текстов и их интерпретаций. Но отсюда следует и то, что отсылки типа «все, что вы говорите, уже было у Платона/Аристотеля и проч.» – бессмысленны, не было у них ничего такого; предельный случай, напоминающий о важности говорения-из-исторической-ситуации, – пресловутый «Дон Кихот» Пьера Менара, о котором так точно свидетельствует Борхес. Всякое философское начинание – интерпретация уже существующих смыслов, и странно слышать, что «настоящему» философу не нужны подпорки в виде отсылок к уже существующим текстам и идеям, даже гений невозможен без этих костылей. Более того, ни одно наше повседневное действие не совершится за пределами опосредствующей смысловой и понятийной среды, если угодно, философии. Понятия, слова, смыслы влияют на нашу жизнь, становятся частью наших судеб и тел, а философия – просто один из способов сознательной ориентации в этом пространстве, искусство прокладывать в нем свои пути. Поэтому противопоставление некоего «изначального» философского опыта и вторичных интерпретаций ложно, сбивает с толку. Это не значит, что начетничества не существует. Критерий качества историко-философской работы нужно, по-видимому, искать на уровне удачной или неудачной герменевтики, думая о том, удалось ли, истолковывая текст, отыскать такое его удвоение, такое сцепление смыслов, которое найдет отклик в истории идей и даст решения для сегодняшней мысли.
Ознакомительная версия. Доступно 14 страниц из 70