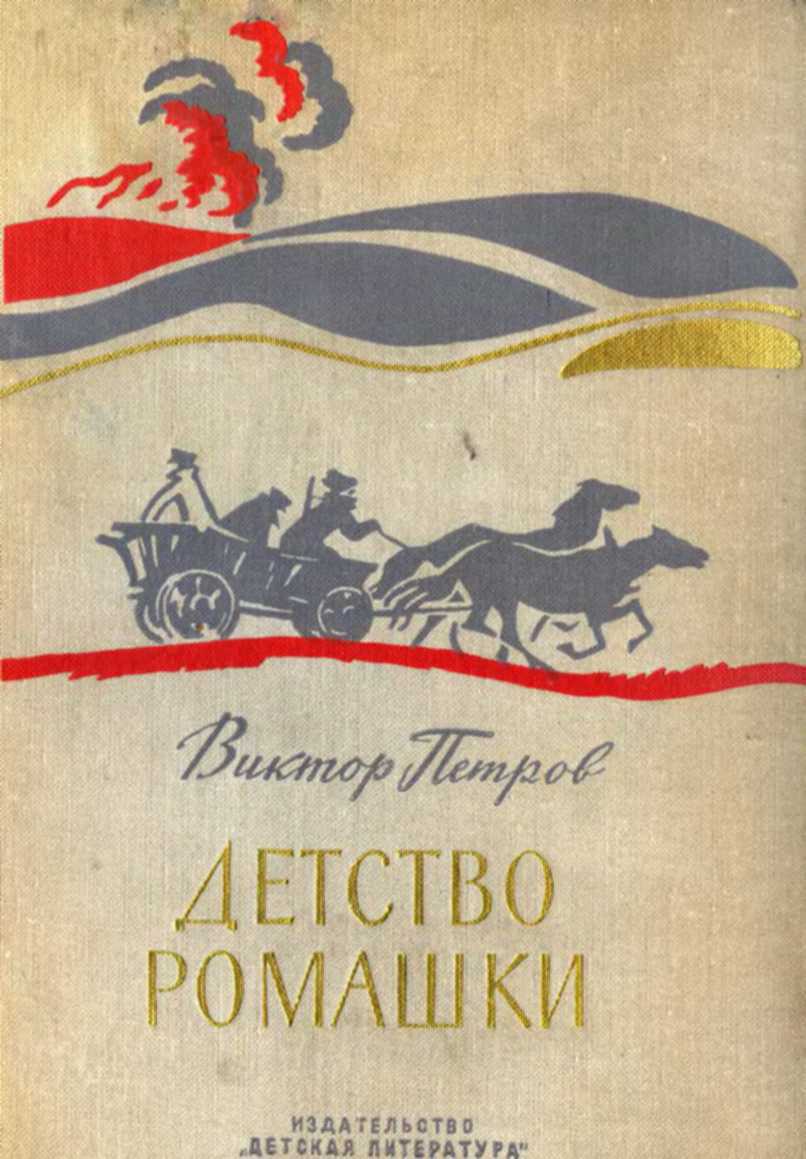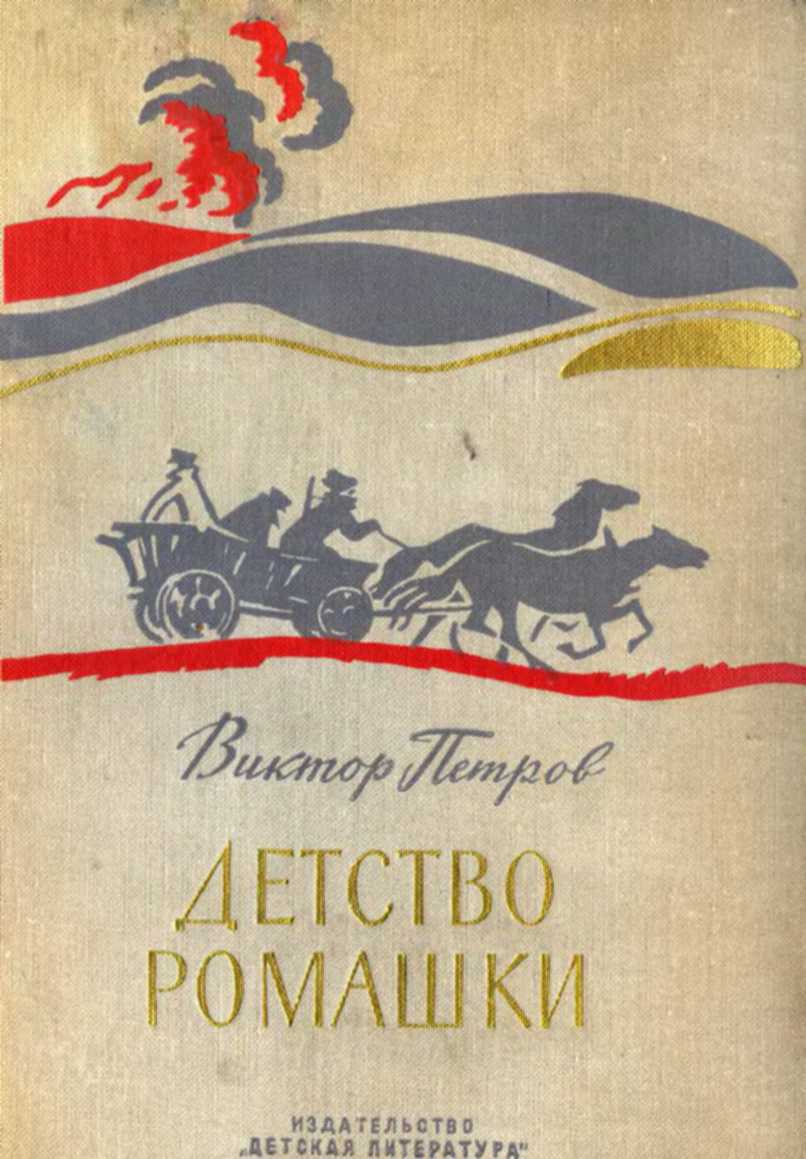Впрочем, вскоре он познакомился с одним полковником, приехавшим из Грузии, и проводил у него большую часть времени. Полковник обратил внимание Пустогородова сначала своею фуражкою, известною в Закавказье под названием а-ла-Коцебу, а потом и самим собою. Не подумайте, однако, чтобы это была какая-либо немецкая оригинальная шапка или чухонский колпак: это просто фуражка, обтянутая белым чехлом, который покрывает вместе и козырек.
Полковник, носивший ее, был человек преждевременно состарившийся; в правильных чертах его лица, которое некогда нравилось женщинам, выражались необузданные страсти, превратившиеся в привычный разврат; следы изнурения, истомы и душевных огорчений от обманутых честолюбивых надежд подернули какою-то мрачностью это лицо, некогда прекрасное (по крайней мере, таковы были слухи). Редкие волосы, едва покрывающие голову, давали некоторым образом понятие о жизни. Накопив груды денег, он приехал насладиться покупными удовольствиями, но, не находя их по вкусу своему, проводил ночи за картами, а утро и вечер посвящал волокитству. Вероятно, полковник, по старой привычке, снисходительно смотрел на себя в зеркало; иначе он счел бы нужным поступить в число заштатных волокит. Но человеческое самолюбие слабо! На гуляньях он ухаживал за истощенными мнимыми красавицами, рассказывал им с восторгом были и небылицы о крае, откуда приехал, и прикрашивал рассказы словами: «Восхитительная страна!.. Особенно для того, кто составил себе имя в ней!» Николаша, слышав несколько раз эти слова, спрашивал у его товарищей, что за подвиги у этого офицера в Закавказье? Ему отвечали: «Как же! Он известен в Кавказском корпусе!» Но чем, никто не знал. Он обратился с этим вопросом к брату.
– Да! – отвечал Александр, – он известен в нашем корпусе огромными доходами, которые незаконно наживает, строптивостью и неприятностью нрава и страстью к азартной игре. Он выжил из полка почти всех старых, заслуженных офицеров.
Довольно было для Николаши слышать, что полковник любит игру. Он сдружился с ним и скоро очутился среди всех игроков, нарочно съехавшихся в Пятигорск, чтобы обыграть друг друга. Он играл ежедневно, но мало выигрывал: записные искусники не допускали его чрезмерно пользоваться счастьем. Он и не проигрывал, однако ж, потому что всегда метал: стало быть, труднее давался в обман.
Наконец приехали старики Пустогородовы. Петр Петрович не владел правой рукой. Прасковья Петровна оставалась так же здорова и свежа, как мы ее видели. Оба очень радушно встретились с Александром: отец истинно любил сына, а матери понравилась его наружность и кротость в обхождении. О Николаше нечего и говорить, ему обрадовались невыразимо! Но он был со стариками довольно холоден и невнимателен, как человек, совершенно уверенный в их любви и не помышляющий, что может ее потерять. Николаша советовал отцу быть воздержаннее в пище, а мать пенял за невысылку денег, когда он их просил. Послали за медиками; сделали консилиум: доктора поспорили, покосились, отпустили несколько колкостей друг другу и решили, что больной должен пить серную горячую воду, брать ванны, соблюдать строгую диету, мало спать. В непродолжительном времени они хотели опять собраться, чтобы узнать о ходе болезни и действии лечения. Каждый взял по двадцати пяти рублей и уехал, притворяясь, будто не смотрит на своих собратьев. Пятигорские медики все между собою враги: это необходимо, чтобы больные не заметили в беспрерывных консилиумах, которых они то и дело требуют, желания исторгать побольше денег. Врачи считаются между собою приглашениями на консилиумы, точно так же, как светские дамы визитами; но у них счет еще сложнее, потому что берется на бирку плата за консилиум. Если доктор приглашает своих собратов на совещание к такому больному, который дает по пятидесяти рублей, так этого медика они должны пригласить, каждый в свою очередь, на консилиум той же цены. Похвальное братство, утешительное в роде человеческом правосудие!.. Но, кажется, оно не совсем приятное для пациента. Наконец Пятигорск дождался 25 июня. Гарнизон утром причепурился и дал, как водится, развод. Почтенный комендант, маститый ветеран, поседевший на сорокалетней безукоризненной службе, выгладил свой ус, не уступающий белизною снегу Эльборуса [117]; поздравил солдат с торжественным днем рождения государя императора и разослал посетителям повестки, что вечером будет бал в ресторации. Желающие танцевать должны были явиться в мундире; прочие, кому здоровье не позволяло наряжаться, могли быть в сюртуках. Разумеется, это возбудило ропот: на что не ропщут! Пошли толки. «Что за мундиры, когда приехали за тысячу верст лечиться!» – говорили одни. «Никто не пойдет на этот бал!» – восклицали другие. Конечно, для дендизма невыгодно приходить на бал с объявлением: я намерен танцевать. Для истинного модника нет ни цели, ни намерений: таков тон нашего времени. Настоящий денди отправляется, не зная сам куда, совсем не ведая зачем: по крайней мере должен это показывать.
Единственная цель его – взглянуть, что делает толпа. Как можно идти отыскивать удовольствия! Будто денди нуждается в них! Будто будуар его скучен! Будто он сам в себе не находит довольно средств к развлечению! Такая мысль оскорбительна для него. Денди ни с кем не говорит: он дарит словами, которые, по его мнению, во сто крат питательнее для ума, чем манна была в пустыне для израильтянина. Денди надел бы сюртук и пошел на бал: к счастию, однако ж, в Пятигорске этих господ мало. Тут все армейские офицеры. Скучая всю жизнь в деревнях на портое, развлекаясь только в обществе какого-нибудь грубого мелкопоместного дворянина или оскорбительно надменного богача-помещика, они радехоньки посмотреть на бал, себя показать и потанцевать. Они надели мундиры и явились на вечер.
Пятигорские балы довольно благовидны: зала, где танцуют, просторна, опрятно содержана, изрядно освещена; музыка порядочная. Приезжие дамы корчат большую простоту в одежде, но в наряде их проглядывает иногда тайное изящество – что вовсе не лишнее, если выкинуто со вкусом. Пестрота военных мундиров, разнообразие фрачных покроев и причесок, различие приемов, от знатной барыни до бедной жены гарнизонного офицера, от столичного денди до офицера пятигорского линейного батальона, который смело выступает с огромными эполетами, с галстухом, выходящим из воротника на четверть, и до чиновника во фраке, с длинными, почти до полу, фалдами, с высокими брызжами, подпирающими щеки, – все это прелюбопытно и занимательно. Но когда начнутся танцы – тут смех и горе! Когда все эти лица, бледные, изнуренные от лечения и насильственного пота, задвигаются, невольно помыслишь о сатанинской пляске. И тут же, для довершения картины, проделки пехотных офицеров ногами, жеманство провинциального селадона, шпоры поселенного улана, припрыжка и каблуки гусара, тяжелые шаги кирасира, притворная степенность артиллериста, педантские движения офицера Генерального штаба, проказы моряка, грубые, дерзкие ухватки казако-ландпасного драгуна. Все странно и забавно!
Николай Петрович, разумеется, явился на