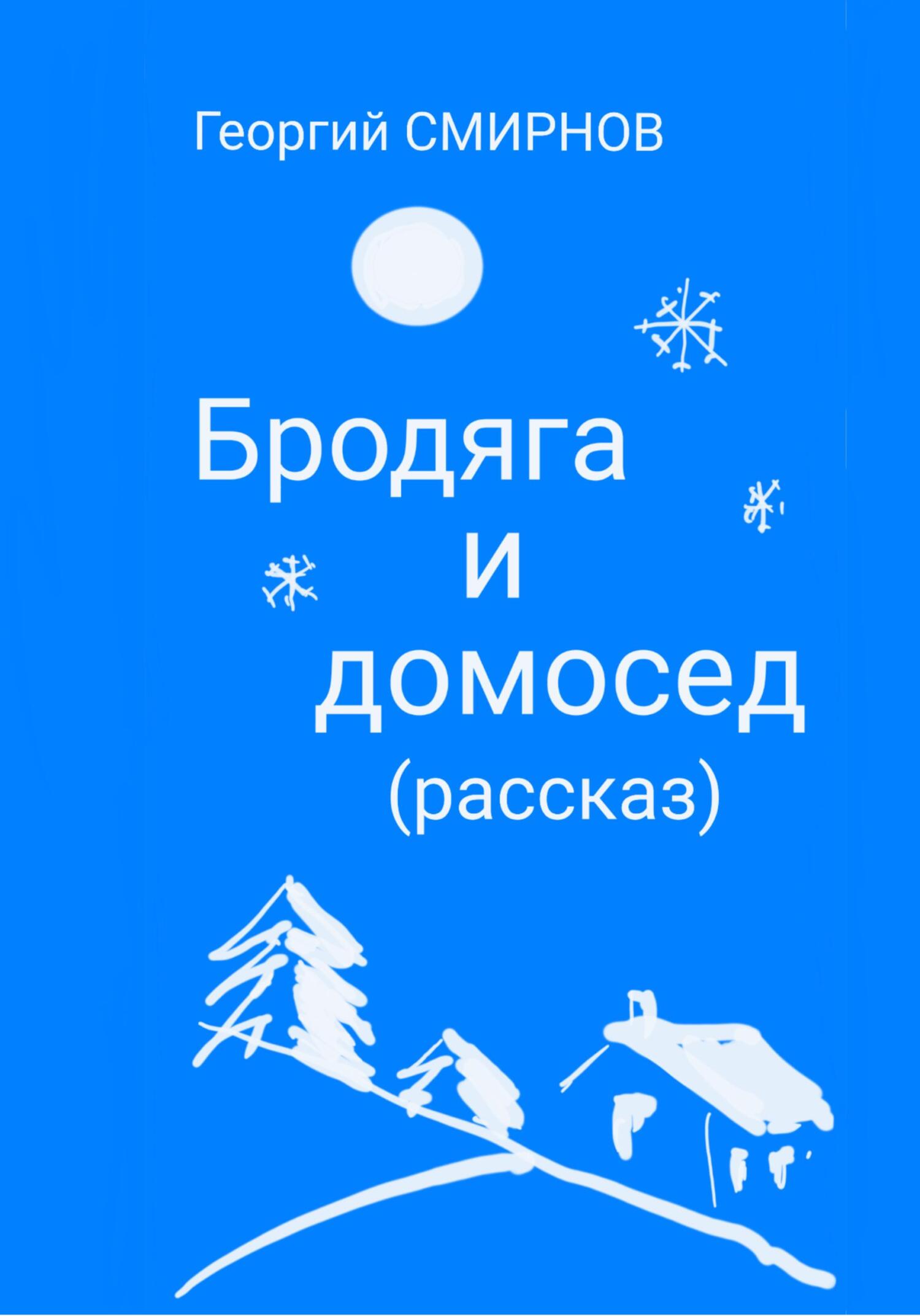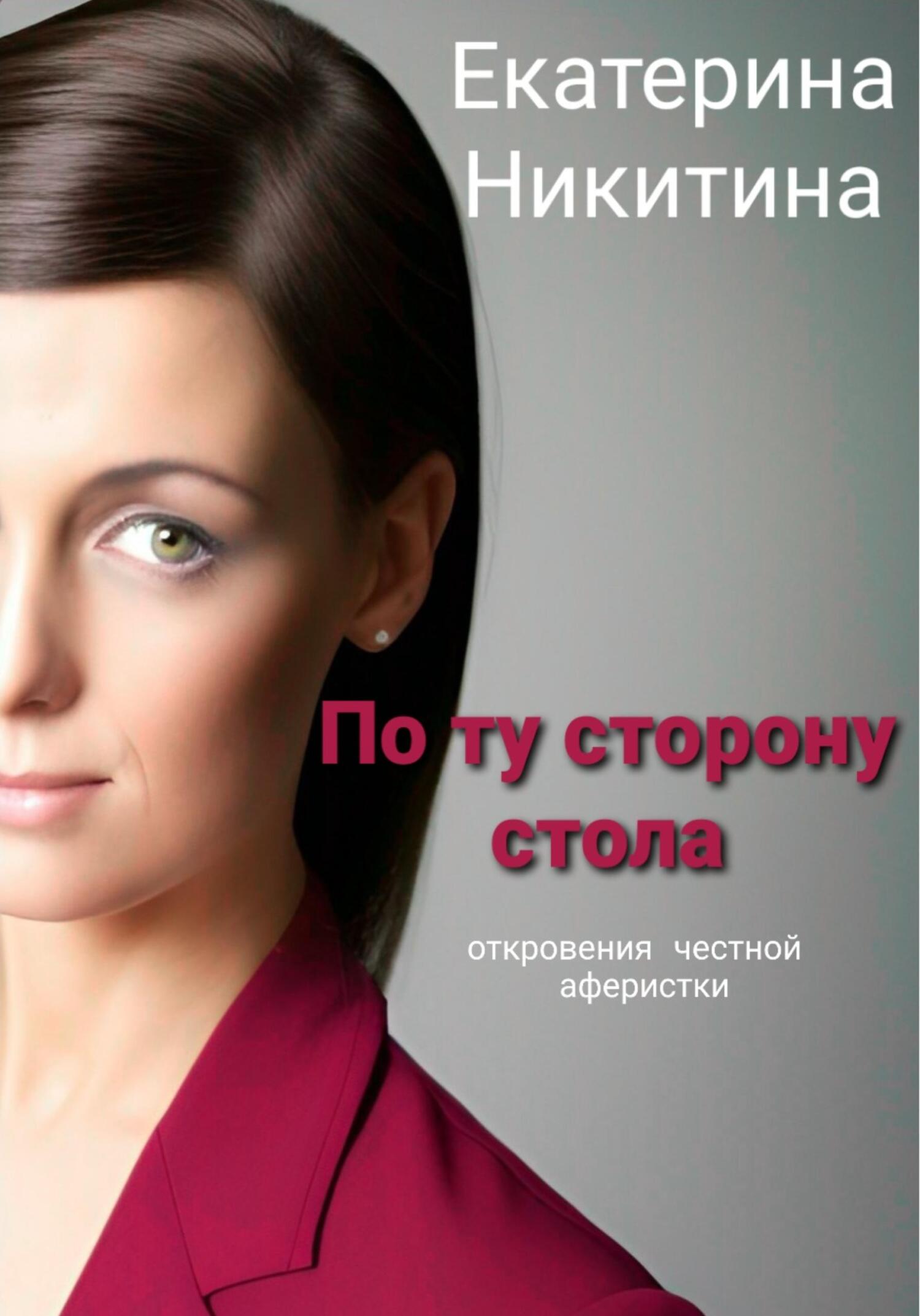время двадцать две церкви. Их старинные главы и купола возвышались над бесконечными яблоневыми садами. Тихие немощеные улицы каждую весну зарастали травой, на которой босоногие мальчишки и девчонки играли в лапту или в бабки.
Для этих босоногих мальчишек и девчонок Рубец открыл в городе бесплатную детскую музыкальную школу и бесплатную школу рисования. Он содержал на свой счет еще и курсы кройки и шитья для сельских учителей, набрал и обучил хор из шестидесяти человек и симфонический оркестр, который с успехом выступал с концертами из произведений русских композиторов и самого Александра Ивановича. Хор и оркестр чаще всего выступали в ротонде; ее тоже на свои средства построил Рубец.
Лишних денег у него не было, и он тратил на благотворительные цели почти всю пенсию, с большим трудом «исходатайствованную от щедрот монарших» — шестьсот рублей в год.
Если Рубец мог сделать добро людям, он его делал.
Все это я узнал в самые последние годы, когда занялся трудными поисками материалов об Александре Ивановиче Рубце. После долгой разлуки со Стародубом я снова приехал в родной город. Он мне показался незнакомым. Разрушенный и сожженный войной, он отстраивался как-то по-иному. Я видел новые здания, новые деревья шумели надо мной молодыми кронами, пока я шел от вокзала к нашему деревянному, чудом уцелевшему дому. Не стало и привычной глазу древней Вознесенской церкви, в ограде которой лежал Рубец.
Я попробовал отыскать то место, где он был похоронен, крест, чугунную плиту с надписью, но тщетно. Маленький холмик не уберегли, он исчез, как постепенно исчезает и сама память об этом большом человеке и гражданине.
Мне это показалось настолько обидным, настолько противоречащим нашим традициям бережного отношения к прогрессивным деятелям прошлого, что я, отбросив дела, приведшие меня в родной город, принялся разыскивать документы о Рубце. Нет, я занимался не только этим. Четыре последние года я, как и раньше, писал рассказы и статьи, ездил по стране, но думы мои неизменно обращались к забытому имени моего земляка. Я выкраивал время, чтобы рыться в архивах и библиотеках, разыскивать последних стариков, еще помнящих Рубца, и заносить в тетрадь те крохи сведений о нем, которые еще не успело уничтожить время.
Сведений и документов с каждым годом становится все меньше. От пожаров, войн, а всего более от людской небрежности и равнодушия пропадают многие книги, записи, вещи, так или иначе связанные с Рубцом.
Все четыре года я жил этим человеком и чем больше я узнавал о нем, чем глубже поднимал пласты его долгой, нелегкой, отданной народу жизни, тем яснее понимал, насколько незаслуженно предано забвению его имя.
Трудно найти другого музыканта, кому бы так не повезло после смерти.
Из семи тысяч песен — украинских, русских и белорусских, — найденных и гармонизованных Рубцом, опубликовано всего двести шестнадцать. Остальные пропали, как и сорок две общих тетради дневников.
Им написано несколько крупных симфонических произведений, в свое время исполнявшихся при большом стечении публики («Г-н Рубец — личность в Петербурге очень популярная», — писал Г. Ларош), но ни одно из них не опубликовано, а партитуры исчезли бесследно.
Куда-то девались и многие его романсы, о которых критика отзывалась как о «достойных внимания ценителей искусства», а те, что сохранились, ни разу не исполнялись после его кончины.
Даже фотографий его почти не осталось. Один снимок хранится в Ленинградской консерватории, второй есть у бывшего ученика Рубца, Андрея Осиповича Хомутова, много рассказавшего мне о своем учителе. Третий мне удалось разыскать в селе Понуровка у девяностолетней Александры Михайловны Тросницкой, хорошо знававшей Рубца.
Село это когда-то принадлежало гетману Мазепе, а потом М. П. Миклашевскому, храброму воину, сражавшемуся под знаменами Суворова. В роду Миклашевских было два декабриста — муж дочери Бригтен и сын Александр Михайлович, принимавший участие в восстании Черниговского полка. Недавно скончался внук декабриста, профессор Харьковской консерватории Осип Михайлович Миклашевский. Детство его прошло в Понуровке, куда наведывался Рубец, чтобы послушать игру маленького Оси.
Небольшой автобус повез меня из Стародуба в Понуровку.
Я не знал, где живет бывшая учительница Тросницкая. Было очень рано, и я бродил возле заросшего камышом озера, пока не наткнулся на усатого крепкого старика, удившего рыбу. Мы разговорились, и старик назвался племянником Тросницкой. Тут же выяснилось, что он знал моего отца и прочую родню, а посему, воспылав ко мне доверием и нежностью, смотал удочки, и мы бодро зашагали на другой конец озера.
Александра Михайловна уже бодрствовала. По стариковской привычке она встала часа в четыре и теперь хлопотала по хозяйству, проворно шаркая ногами в стоптанных матерчатых туфлях. Она принесла из другой комнаты старую фотографию, и я увидел на ней знакомую фигуру Запорожца. Рубец стоял возле юной Тросницкой, игравшей на гуслях.
Потом мы пошли на другую, нежилую, половину дома, и там среди старой мебели, растрепанных книг и прочего ненужного имущества я увидел рассохшиеся гусли из карельской березы. Александра Михайловна осторожно дотронулась до струн, и они тихо и печально зазвенели. На этих гуслях много лет назад Рубец исполнял свои песни.
Говорят, что Тросницкой он посвятил несколько стихотворений, на слова которых сам писал музыку. Одно из них мне продиктовал Хомутов:
У моря сижу на утесе крутом,
мечтами и думами полный.
Лишь ветер да тучи, да чайки кругом,
кочуют и пенятся волны.
Знавал и друзей я, и ласковых дев,
их ныне припомнить хочу я…
Куда вы сокрылись? Лишь ветер да рев,
да пенятся волны, кочуя.
Слово «рёв» здесь надо произносить по-старинному — «рев», как пел в былые годы Рубец.
В Стародубе я зашел в дом Рубца. Нет, никто из жильцов не помнит и не слышал даже, что здесь когда-то проживал старый петербургский профессор, что, быть может, здесь останавливался великий Репин, дважды наведывавшийся к своему Запорожцу. Дом недавно перегородили на квартиры-клетушки. Отовсюду доносились житейские разговоры, крики детей, шум примусов. И ничего, ровным счетом ничего не напоминало о прежнем хозяине.
Он не мог жить без песни. Она сопровождала его от первого и до последнего вздоха, 29 апреля 1913 года.
Была ночь. В саду заливались соловьи. Цвела сирень, и ее влажные от росы ветви пахли пряно и душно. У постели умирающего молча стояли его ученики. Родных не было, к той поре они все умерли. В минуту просветления он попросил, чтобы ему спели. Ученики спели его любимую песню на слова великого Кобзаря: «Думы мои, думы мои, тяжко