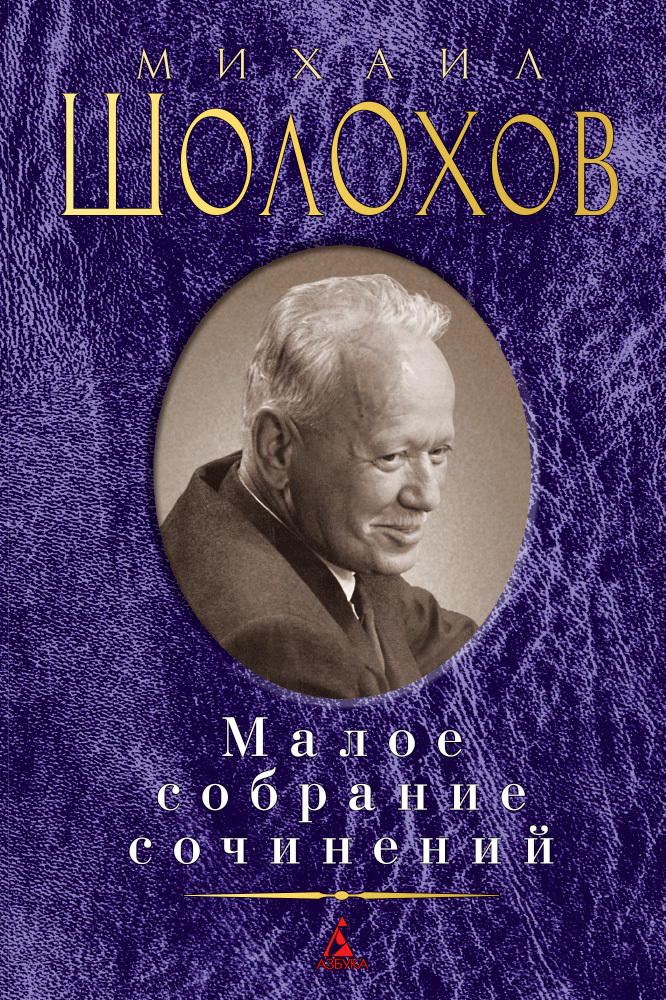визжит, а хрипит да всхлипывает… И вот тогда я взял его на руки… — Половцев улыбнулся как-то виновато, смущенно, одною стороною рта. — Взял да так разревелся сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось. Судороги тогда со мной сделались… Мать прибежала, а я рядом со щенком лежу возле каретника на земле и ногами сучу… С той поры не переношу собак. А вот кошек чертовски люблю. И детей. Маленьких. Очень люблю, даже как-то болезненно. Детских слез не могу слышать, все во мне переворачивается… А ты, старик, кошек любишь или нет?
Изумленный донельзя проявлением таких простых человеческих чувств, необычным разговором своего начальника, пожилого матерого офицера, славившегося еще на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой. Половцев помолчал, посуровел лицом и уже сухо, по-деловому спросил:
— Почта давно была?
— Зараз же разлóй, лога все понадулись, бездорожье. Недели полторы не было почты.
— В хуторе ничего не слышно насчет статьи Сталина?
— Какой статьи?
— Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов.
— Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было пропечатано, Александр Анисимыч?
— Так, пустое… Тебе это неинтересно. Ну, ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через три. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей, и как только смеркнется, поедем на Войсковой. Ты поедешь охлюпкой,[35] тут недалеко.
Утром Половцев долго говорил с прохмелившимся Лятьевским. После разговора Лятьевский вышел в кухню бледный, злой.
— Может, похмелиться есть нужда? — предупредительно спросил Яков Лукич, но Лятьевский глянул куда-то выше его головы, раздельно сказал:
— Теперь уж ничего не надо, — и ушел в горенку, лег на кровать ничком.
Ночью на колхозной конюшне дежурил Батальщиков Иван — один из завербованных Яковом Лукичом в «Союз освобождения Дона». Но Яков Лукич и ему не сказал о том, куда и для какой надобности поедут. «По нашему делу надо съездить недалеко», — уклончиво ответил на вопрос Батальщикова. И тот, не колеблясь, отвязал пару лучших лошадей. По-за гумнами провел их Яков Лукич, привязал в леваде, а сам пошел вызывать Половцева. И когда подходил к дверям горенки, слышал, как Лятьевский крикнул: «Да ведь это же означает наше поражение, поймите!» В ответ что-то сурово забасил Половцев, и Яков Лукич, томимый предчувствием какой-то беды, тихо постучался.
Половцев вынес седло. Вышли. Взяли лошадей. Тронули рысью. Речку переехали за хутором вброд. Всю дорогу Половцев молчал, курить воспретил и ехать велел не по дороге, а сбочь, саженях в пятидесяти.
В Войсковом их ждали. В курене у знакомого Якову Лукичу казака сидело человек двадцать хуторян. Преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку, потом отошел с одним к окну, шепотом в течение пяти минут говорил. Остальные молча поглядывали то на Половцева, то на Якова Лукича. А тот, присев около порога, чувствовал себя среди чужих, мало знакомых казаков потерянно, неловко…
Окна изнутри были плотно занавешены дерюжками, ставни закрыты, на базу караулил зять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил вполголоса:
— Ну, господа казаки, час близок! Кончается время вашего рабства, надо выступать. Наша боевая организация наготове. Выступаем послезавтра ночью. К вам в Войсковой придет конная полусотня, и по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартирах этих… агитколонщиков. Чтобы ни один живым не ушел! Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапки белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть наготове конь, имеющееся вооружение — шашка, винтовка или даже охотничье ружье — и трехдневный запас харчей. После того как управитесь с агитколонной и вашими местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни. По его приказу тронетесь туда, куда он вас поведет. — Половцев глубоко вздохнул, вынул из-за пояса толстовки пальцы левой руки, вытер тылом ладони пот на лбу и громче продолжал: — Со мною приехал из Гремячего Лога всем вам известный казак Яков Лукич Островнов, мой полчанин. Он вам подтвердит готовность большинства гремяченцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от ига коммунистов. Говори, Островнов!
Тяжелый взгляд Половцева приподнял Якова Лукича с табурета. Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани, но говорить ему не пришлось, его опередил один из присутствовавших на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший в Войсковом бессменным попечителем церковноприходской школы. Он встал вместе с Яковом Лукичом и, не дав ему слова вымолвить, спросил:
— А вы, ваше благородие, господин есаул, наслышанные об том, что… Тут вот до вашего прибытия совет промежду нас шел… Тут газетка дюже антиресная проявилась…
— Что-о-о? Что ты говоришь, дед? — хрипловато спросил Половцев.
— Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии…
— Секретаря! — поправил кто-то из толпившихся возле печи.
— …То бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от второго числа сего месяца, — не спеша, старческим тенорком говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенную вчетверо газету. — Читали мы вслух ее промеж себя трошки загодя до вашего прибытия, и… выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами! Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит… Мы вчера прослыхали про эту газету, а ноне утром сел я верхи и, на старость свою не глядя, мотнулся в станицу. Через Левшову балку вплынь шел, со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомца в станице за-ради Христа выпросил — купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил! А посля уже доглядели, а на ней обозначенная цена — пять копеек! Ну, да деньги мне с обчества соберут, с база по гривеннику, так мы порешили. Но газета денег этих стоит, ажник, кубыть, даже превышает…
— Ты о чем говоришь, дед? Ты что это несешь и с Дона и с моря? На старости лет умом помешался? Кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих? — с гневной дрожью в голосе спросил Половцев.
Тогда выступил малого роста казачок, годов сорока на вид, с куцыми золотистыми усами и расплюснутым носом; выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающе, зло:
— Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте, вы на них и так предостаточно нашумелись в старую времю. Попановали — и хватит, а зараз надо