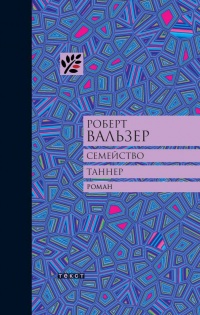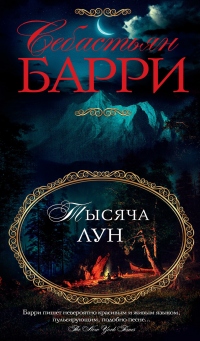— Ох, огребет он неприятностей, — сказал Лукас. — И ты вместе с ним.
— Надо его спасать.
Теперь, когда в Мусульманском квартале начинался рабочий день, толпа вокруг них состояла в основном из палестинцев. Мальчишки катили по булыжнику тачки, наполненные баклажанами и дынями. Прохожие, видя множество возбужденных иностранцев, останавливались, интересуясь, что происходит. Лукас и Сония зашли в приют, где нашли Де Куффа, который спорил с француженкой — сестрой Сиона[214].
Внутри приют сильно отдавал Францией. Лукас уловил запах цветочного мыла, саше и полировки. На стойке регистратуры стояли свежесрезанные цветы. Ранние постояльцы, спустившиеся к завтраку и болтающие по-французски, добавляли к этой смеси аромат дымка первых «Голуаз», аромат кофе и круассанов.
Молодой палестинец, с сонными глазами за стойкой, отложил «Аль-Джихар», которую он читал, и огорошенно воззрился на Де Куффа, а старикан, сама любезность и почтительность, разговаривал с монахиней по-французски.
Монахиня была седовласа, в платье из сирсакера, черном фартуке и темном чепце. Она бросила внимательный взгляд через плечо Де Куффа на вошедшего Лукаса. Лицо ее омрачилось тенью подозрения.
Де Куфф ясно и уверенно поставил ее в известность, что, возможно, ему в силу обстоятельств потребуется комната.
— Что вы тут делаете? — сурово спросила она по-английски. — Чего хотите от нас?
Лукас подумал, что понял, в чем дело. Монахиня-француженка узнала в них, по крайней мере в Де Куффе, евреев. Палестинец за стойкой, неевропеец, был не уверен.
— Время от времени номер на ночь, сестра, — сказал Де Куфф. — Всего-навсего.
— Но зачем?
— Чтобы быть рядом с купальней. И с церковью. Если возникнет необходимость. Когда придет время.
— Хотелось бы верить, что вы всего лишь фанатик, — сказала монахиня. — Боюсь, вы явились выселить нас.
— Вы ошиблись, — возразил Де Куфф.
Когда палестинец вышел из-за стойки, она положила ладонь ему на грудь, удерживая, и обратилась к Де Куффу:
— Мы находимся здесь уже триста лет и даже больше. Наши права подтверждали все власти. Ваше правительство заключило с нами соглашение.
— Вы ошибаетесь. Я понимаю вашу ошибку. Вы приняли меня за израильского активиста. Но когда-то я был католиком, как вы. Могу показать свидетельство о крещении.
Он пошарил в недрах пиджака и тут же нашел искомое среди таинственного содержимого карманов. Извлек маленькую разукрашенную книжечку в конверте, скрепленном золотой тесьмой, и с подписью монаха, который крестил его.
Монахиня взяла конверт, надела очки и принялась распутывать тесьму.
— Я должен остаться здесь, — сказал Де Куфф. Он становился все возбужденнее. — Вы должны понять. Мне необходимо быть рядом с Вифездой. Мне требуется ее благословение.
Он быстро направился в трапезную, где завтракали паломники-французы.
— Если бы вы могли видеть то, что видел я сегодня утром, — заявил он, — то до конца жизни славили Ветхого Днями. То, зачем вы явились сюда, — я видел.
Паломники за кофе с молоком и круассанами воззрились на него.
— Кто вы? — спросила монахиня Лукаса. — Кто он?
— Я журналист.
Монахиня возвела глаза к небу и схватилась за голову.
— Журналист? Но почему вы здесь? — спросила она снова.
— Только потому, что он наш друг, — сказала Сония, — и ему плохо. — (Монахиня уставилась на Сонию и свернувшегося змия у нее на шее.) — По правде сказать, он хороший человек, который верует во все религии.
Сестра Сиона горько засмеялась:
— Да что вы говорите? Во все?
Она отвернулась от Лукаса и последовала за Де Куффом в трапезную.
— Что вы хотите, месье? — спросила она с расстановкой, словно доходчивая внятная речь могла уладить ситуацию. — Почему вам необходимо быть рядом с купальней? Или Святой Анной?
— Чтобы медитировать! — вскричал Де Куфф. — Молиться! Слышать, как поют мои друзья. И я могу заплатить.
С истинно французской непосредственностью монахиня надула щеки и выдохнула:
— Пф-ф… Просто не знаю, что и думать о вас, месье. Возможно, вы больны. — Она повернулась к Лукасу. — Если он болен, отвели бы вы его домой.
Де Куфф сел за свободный столик и уронил голову на ладони. Сония подошла и села рядом:
— Ну, Преподобный, пойдем.
— Я рассказал им о mors osculi[215]. Объявил о Поцелуе смерти и думал, что их обуяет страх. Но их не проймешь, они были в восторге.
— Знаю, — сказала Сония. — Я была там.
— Я сейчас свалюсь, — проговорил Де Куфф.
Монахиня присела напротив них.
— Думаю, вы действительно больны, месье. Где вы остановились? — спросила она Лукаса по-английски. — В отеле?
Уроборос, который висел и на шее Де Куффа, явно огорчал ее.
— Если бы я мог отдохнуть минутку, — сказал Де Куфф. — Что-то я вдруг страшно устал.
— Вы должны понять, — заговорила монахиня мягче, — ситуация очень опасная. Интифада продолжается. Каждый день происходят инциденты. Это может стать опасным. Вы меня понимаете?
— Мы понимаем, — ответил Лукас.
Монахиня все трудилась над золотой тесьмой, скреплявшей Де Куффово свидетельство о крещении.
— Вы, должно быть, видели других таких же, — предположил Лукас.
— Да, — ответила монахиня. Она посмотрела на его шею: не носит ли и он цепочку с уроборосом. — Много, — сказала она (с облегчением, подумал Лукас, поскольку змия не увидела). — Но с такими глазами — никогда.
— Он хороший человек, — сказала Сония. — Любит святые места.
— Да уж похоже на то.
— Надо бы перевезти его из Мусульманского квартала, — сказал Лукас. — Для людей главное — территория, и точка. Кто-нибудь нападет на него.
— Хорошо, давай перевезем его на сегодня ко мне в Рехавию, — предложила Сония. — А там подыщем ему место.
Стоя над Де Куффом, сестра Сиона развернула свидетельство, которое он дал ей.
— «Церковь Святого Винченцо Феррери, Нью-Йорк, Нью-Йорк», — вслух прочитала монахиня. — А-а… — протянула она, словно ей мгновенно все стало ясно, — vous êtes américain![216]
22
Как-то утром в своей квартире в Рехавии, среди вещей, напоминавших ей о голоде, эпидемии и войне, Сония пела Лукасу песню о Мелисельде[217]на испанском и ладино, подыгрывая себе на гитаре.