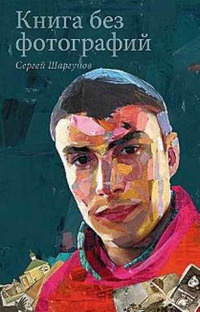Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92
В Москве я говорю об этом с Юлей Гумен и Наташей Смирновой – едва ли не первыми людьми в России, которые сделали занятие литагента своей единственной профессией. У агентства «Goumen&Smirnova» в клиентах половина актуальной русской прозы, и, конечно, они пытаются продавать ее на Запад. Я перечисляю им ответы, известные мне. Они комментируют, загибая пальцы.
Да, агентов и впрямь мало – но потребности крошечного рынка потенциально экспортных книг они покрывают вполне.
Да, квота существует – в англоязычном мире доля переводной литературы составляет два процента, хоть ты тресни, но это для всех два процента, не только для русских.
Да, есть еще проблема с переводами: хорошие переводы с русского дороги, и издатели скупятся, а государственных программ финансовой поддержки перевода, как во многих странах, у нас нет; на частном уровне это начинают делать Фонд Прохорова и «Academia Rossica», но этого явно мало.
Да, западный издатель и читатель, кажется, ждет от русских писателей не вполне того, что они предлагают. Чего ждет? А всё того же: баня, водка, гармонь, лосось, черная икра, застенки, мороз-мороз, хохлома; они хотят слышать, как русские, поднимая тост, говорят na zdorovye. А чтобы их переубедить, надо уметь писать грамотный мейнстрим, а у нас почти не пишут грамотного мейнстрима. У нас либо downmarket – коммерческий продукт довольно низкого качества, который не востребован на Западе, либо high-brow – интеллектуальная, труднопроницаемая проза, которая бестселлером по определению стать не может.
И как писать, чтобы тебя читали, у нас не учат. Никаких тебе курсов «creative writing», как в любом заштатном западном вузе.
…Только я не думаю, что курсы «creative writing» всё чудесно изменят. Вопреки распространенному даже среди профессионалов мнению настоящий бестселлер – это не индустриальный продукт, а штука ручной выделки.
Бригада грамотных маркетологов с хорошим бюджетом может, конечно, втюхать намеченной таргет-груп хоть телефонный справочник. Но то, что выходит за пределы этой самой таргет-груп, то, что инициирует цепную реакцию, меняет моды и влияет на умы, – это всегда немножко магия. Немножко иррацио. Немножко «черный лебедь», по определению бизнес-философа Нассима Николаса Талеба: поворотное событие, абсолютно непредсказуемое до и представляющееся абсолютно логичным после.
Даже одноклеточный «Код да Винчи» кажется неизбежным хитом только задним числом: сотни сочинителей до Дэна Брауна спекулировали на подобную тему, но никто не сорвал банк.
Даже поттериана Джоан Роулинг: это сейчас непонятно, как наши дети жили без Гарри, который – как бренд – сегодня оценивается в пятнадцать миллиардов фунтов. Но у тех двенадцати издательств, которые в свое время благополучно отфутболили первую, написанную в кафе рукопись Роулинг, были, я уверен, титановые аргументы.
«Черные лебеди» – это верное определение.
Талеб написал о «черных лебедях» книгу, и она стала бестселлером.
* * *
Лежащая в горсти открыточных гор Беллинцона – хоть и итальянская, но Швейцария. В Швейцарии не должно быть «черных лебедей»: банкам и часам сюрпризы противопоказаны. Зато в Швейцарии бывают темные лошадки. Я разглядываю своего нового, а как же, друга Николая Лилина, автора бестселлера завтрашнего дня, и он нравится мне всё больше.
Лилин рассказывает, как приглашал в свой дом (он женат на итальянке и живет под Турином) солистов русского балета.
– Это же сверхлюди! – говорит он с нежностью. – Они так движутся, нах, как привидения, как ебаные касперы!
Еще Лилин рассказывает про свой жизненный путь. Его жизненный путь опровергает известный постулат о том, что время не резиновое. Биография Лилина вмещает раза в четыре больше событий, чем должна. Он ребенком стаскивал с убитых молдаван бронежилеты в Приднестровье. Он добровольцем участвовал во второй чеченской. У него первая ходка на зону была в тринадцать. Он родом из Сибири, и все его мужские предки были пацанами, по сравнению с которыми Аль Капоне бойскаут, а каморра с коза ностра должны, говорит он, сосать у них, не нагибаясь.
Слева на шее у него «тыкуха» (он явно пижонит этим лагерным термином): на фоне креста раскрытая книга, в ней – «Не бойся, не проси, не верь». На пальцах у него кресты и сердца, перстни судимости, которых, по моим дилетантским прикидкам, хватило бы трем матерым ворам в законе для выхода на заслуженную пенсию. На одном предплечье у него кошачья морда в кепке, а под ней перекрещенные нож и маузер. На другом – китайский дракон…
Я смотрю на него с нежностью, почти как он – на касперов русского балета. Я хотел бы прочесть его книгу автобиографических рассказов, да жаль, что она существует только на итальянском. Он прекрасный и знакомый персонаж. Он, конечно же, Хлестаков, Хлестаков-апгрейд, дитя новой России – со своим резиновым временем, со своей войной и зоной, с другом Личо Джелли и с угрозами исламистов, из-за которых он, оказывается, по Италии без оружия не ездит.
Гоголь написал про Хлестакова отличную пьесу, но она не стала мировым бестселлером. Я не исключаю, что, когда за перо берется сам Хлестаков, его шансы куда выше.
В Москве я спрашивал о том, почему русские не пишут международных бестселлеров, Сашу Гаврилова. Гаврилов, франт с мушкетерской бородкой, пристрастием к шейным платкам и буйной энергией завзятого бретера, – из той редкой породы людей, которых я для себя окрестил литтехнологами. Редактор «Книжного обозрения», создатель журнала «Что читать», изобретатель Книжного фестиваля в ЦДХ, соучастник множества премиальных затей, немного критик, немного литагент, вездесущий и неуловимый.
Саша, говорил я, ответь мне на этот дурацкий вопрос.
– Это совсем не дурацкий вопрос, – откликался Гаврилов. – Мы же знаем времена, когда некоторые русские писатели конвертировались и продавались очень даже неплохо, а? Какие-нибудь господа Толстой и Достоевский. И даже потом, в советские годы, – был же Солженицын. А теперь совсем перестали. Почему так? Я думаю, дело в тех вопросах, которые ставит литература. Вот, например, вопрос, который ставил Федор Михайлович, – можно ли тюкнуть противную старушку топором по голове в видах личного обогащения или всеобщего счастья? – был понятен и актуален для множества людей в Париже, Лондоне, Берлине и даже такой дыре, как Лиссабон, а позже – в Мехико, Пекине или Торонто. То есть русская литература тут совпадала с мировой повесткой. Во времена СССР мировая повестка была в огромной степени левой – и поэтому наша литература опять с этой повесткой пересекалась. Сегодня русская литература существует совершенно вне мировой повестки. Как и вся Россия, собственно. Мы инкапсулировались. Закрылись. Мы на самом деле глубоко провинциальны. Нам на самом деле неинтересно ничего вокруг. Нас занимают свои вопросы. Которые, в свою очередь, не занимают больше никого и ни в какой повестке не значатся. Например, вопрос о том, хорошо или нет собирать червяков на грядках, – как у множества русских литераторов, зациклившихся на теме своего советского детства. Или о том, хорошо или все-таки не очень бить черножопых на рынках, как у Распутина в недавней повести.
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92