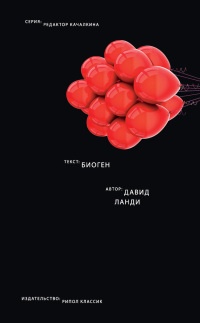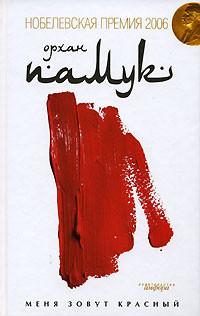Дон Педро следил за своим весом не из соображений здоровья, хотя он и знал, что, сбросив десять-пятнадцать килограммов, он избавится от одышки, которой он иногда страдал. И не для того, чтобы улучшить свой физический облик, поскольку в предшествовавшие войне годы – 1933-й, 1934-й – угроза чахотки вовсе не вдохновляла на то, чтобы испытывать зависть к худобе. В действительности это было его развлечением. На вечеринках, которые каждую неделю устраивались в кафе или на смотровой площадке отеля, он имел обыкновение уже в самом начале беседы упомянуть о том, насколько он похудел или пополнел, что в немалой степени оживляло атмосферу вечеринки. «За последнюю неделю я уже потерял двести сорок граммов» или «я поправился на кило четыреста», уточнял дон Педро, и друзья, особенно три учителя из Обабы, вволю смеялись и подшучивали над ним.
Иногда, дабы повторение не оказалось слишком утомительным, он забывал о весе и избирал в качестве темы шляпу от Дж. Б. Хотсона, серого цвета, которую он привез из Америки. Осью повествования в этом случае становилась удивительная способность шляпы ускользать от своего хозяина и исчезать. «Знаете, где я ее нашел сегодня утром? – восклицал дон Педро. – Представьте себе, в печи для хлеба. Как это шляпа, произведенная в Канаде, может быть такой мерзлячкой?» Он был человеком с чувством юмора, что очень нравилось его друзьям.
Почти все в Обабе, да и в округе, говоря о нем, обычно называли его дон Педро или «американец»; но были люди, не слишком хорошо к нему расположенные, которые предпочитали давать ему третье имя: медведь. Не из-за его тучности и не потому, что это прозвище имело какое-то отношение к его физическому облику – он был кругленький, с мягкими формами, похожий на Оливера Харди, комического актера, – а из-за слуха, давшего пищу для сплетен по поводу одной из версий смерти его брата, самой подлой из всех. Дело в том, что его брат, который непременно повсюду следовал за ним в поисках серебра, погиб в лесах Аляски, став жертвой медведя, «напавшего на него, когда он охотился», как сообщил сам дон Педро немногим своим родственникам, которые были у него в то время в Обабе; а эти злопыхатели постарались всячески исказить произошедшее, заявив: «В том лесу не было никакого другого медведя кроме него самого. Он и убил своего брата, чтобы не пришлось ни с кем делить серебряные копи, которые они разрабатывали вдвоем. Потому-то теперь он и владеет гостиницей и разъезжает в таком огромном автомобиле». Автомобиль, бежево-коричневый «шевроле», был в то время в Обабе единственным. Он производил даже больше впечатления, чем сам отель.
Нельзя было придумать более грубую клевету, чем это вымышленное убийство. Во-первых, потому что в день, когда произошло несчастье, дон Педро находился в Ванкувере, занимаясь бумагами, имевшими отношение к руднику; но прежде всего потому, что, даже если оставить в стороне все детали расследования? братья очень любили друг друга: это были Авель и Авель, никоим образом не Каин и Авель. К сожалению, как справедливо утверждает Библия, клевета – это лакомство для ушей, и слух, который пустили злопыхатели из Обабы, очень скоро стал всеобщим достоянием.
И как раз самые ярые католики, что должны бы более других уделять внимание сказанному в Библии, приложили все старания, дабы распространить эту клевету. Они ненавидели дона Педро за то, что он даже не заглядывал в церковь, а также за то, что, как они полагали, излюбленной темой его разговоров был секс. «Все его истории, – рассказывали они, – всегда такие похабные. Чем грязнее, тем лучше». Во времена, когда традиционалисты с наступлением Страстной пятницы скорее бежали запереть петуха, дабы он не посмел топтать кур, такое поведение представлялось проступком почти столь же серьезным, как убийство брата.
«Интересно, где это пропадали некоторые жители нашего городка – в Америке или в Содоме?» – вопрошал в Страстную пятницу 1935 года проповедник по имени брат Виктор. Это был молодой, атлетически сложенный мужчина, известный во всем округе язвительностью своих проповедей. Когда он испытывал гнев – а это случалось всегда, когда он поднимался на кафедру, вооруженный дурными сведениями, – жилка у него на шее вздувалась так, что это было заметно даже для верующих, взиравших на него со скамей и подставок для коленей. Он был безумен, хотя и не совсем. Его безумие усугубится до крайности на следующий год, с началом гражданской войны.
Один из учителей, посещавших вечеринки, увлекался сочинением стихов. В день, когда дону Педро исполнилось шестьдесят лет, он продекламировал ему после банкета длинный дифирамб, в котором намекал на наговоры, жертвой коих тот являлся: «Тебя зовут медведем, ты и вправду с ним схож, ибо нередко уста твои источают мед». Он хотел сказать, что речи его друга красивы и совсем не агрессивны. «Но в чрезмерной сладости нет ничего хорошего, дон Педро, – как всегда, заметил ему в тот день другой учитель, Маурисио. – Иногда следовало бы проявить жесткость. Почему вы не отправите их к судье? Нужно же наконец дать отпор клеветникам».
Дон Педро не обращал на это никакого внимания. Отвечал шуткой или менял тему разговора и рассказывал друзьям о своей жизни в Америке. Он называл места, в которых ему довелось побывать, – Элис-Арм, Принс– Руперт, Ванкувер, Сиэтл, и рассказывал какой-нибудь забавный случай, один из многих, что произошли с ним. на том далеком континенте: «Как-то однажды из-за крупной забастовки, которая случилась в Сиэтле, мы, десять-двенадцать неразлучных друзей из наших мест, оказались без цента в кармане. Даже на еду ничего не было. В конечном итоге решили пойти в китайский ресторан на Кингс-стрит Тамошняя еда не очень-то нам была по вкусу, но поскольку заплатить мы не могли, нам было важно, чтобы служащие ресторана были маленькими и смирными…»
Названия мест, предметов, имена людей, всплывавшие в памяти дона Педро, словно колокольчики звенели в ушах всех, кто приходил на вечеринки в гостиницу «Аляска». В большинстве своем это были люди образованные, верившие в прогресс. Им было по душе, что кто-то напоминает им о том, что в мире существуют другие страны, что не все края похожи на тот, что открывается их взору со смотровой площадки отеля, – такой зеленый снаружи и такой темный внутри: черная провинция во власти столь же черной религии.
Из всей компании более других ценили перезвон тех далеких названий учителя. Бернардино даже сочинил стихотворение, в котором так же, как в стихотворении, написанном Унамуно, приводились городки Испании, он один за другим перечислял города Америки, которые посетил дон Педро: «Сиэтл, Ванкувер, Олд-Манетт, Нью-Манетт, Элис-Арм, Принс-Руперт, Нэйрен-Харбор…» Им было необходимо мечтать о чем-то далеком, потому что вблизи, в Обабе, жили убого, с «дурными сведениями». Во время проповедей Страстной недели брат Виктор всегда обращался к ним с какой-нибудь инвективой. «Что уж говорить об этих школах, которые развращают души наших детей!» – выкрикивал он, и список обвинений был бесконечен. Основанием для всего этого служило голосование учителей на выборах 1934 года. Все трое проголосовали за Республику. «Что вы здесь делаете? ~ упрекал учителей дон Педро, когда они позволяли себе какую-нибудь жалобу. – Вы же еще молоды! Пакуйте чемоданы и уезжайте! Я дам вам рекомендательные письма для именитых граждан Ванкувера». Учителя отрицательно качали головой. Они не так отважны, как он. Кроме того, они женаты. И их жены – типичные жительницы Обабы, аккуратно посещающие все церковные службы. Дон Педро понимал своих друзей и продолжал рассказывать им свои истории, перечислять названия: Сиэтл, Ванкувер, Олд-Манетт, Нью-Манетт…