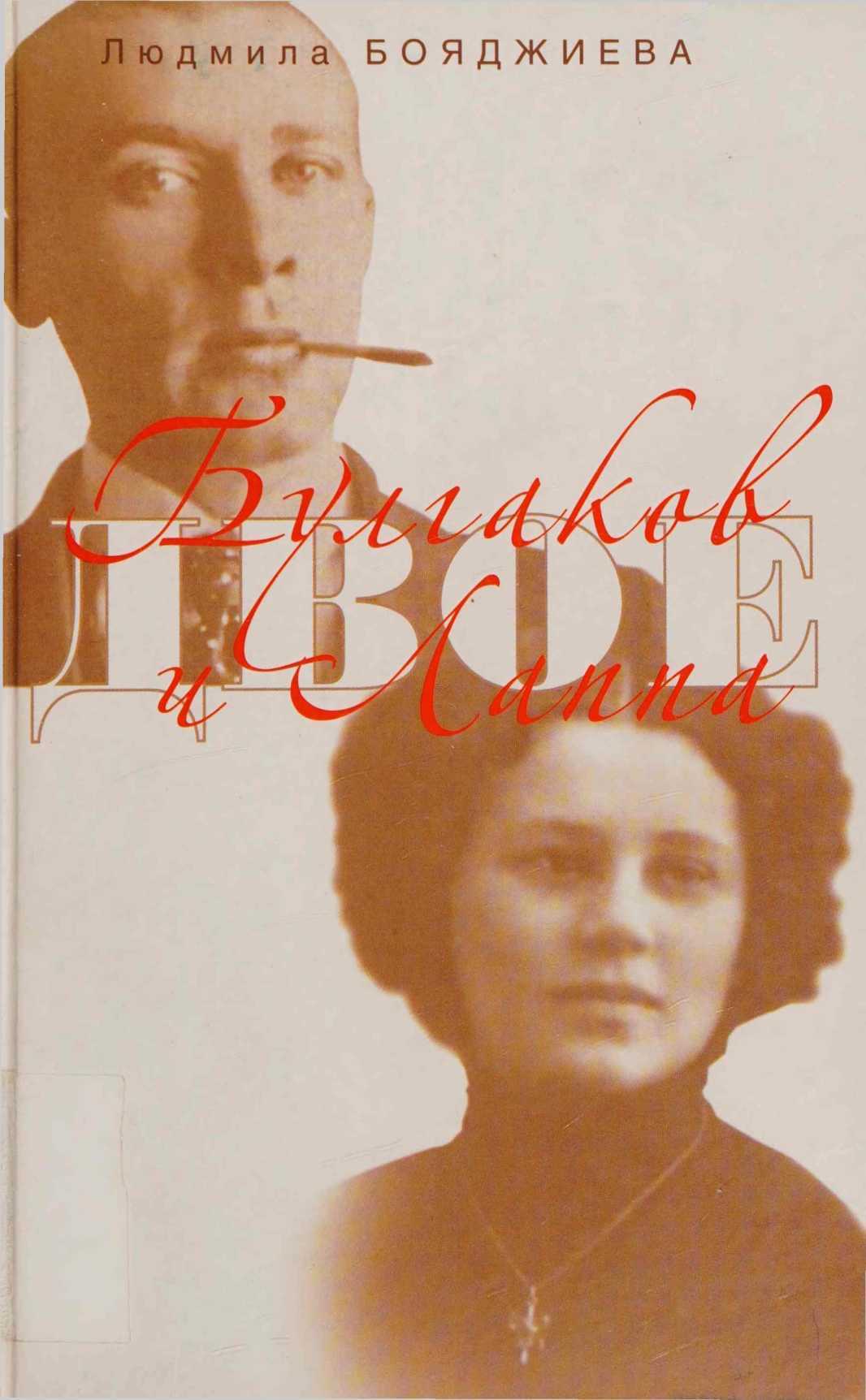был пересечься. Вот что вспоминал бывший мхатовец Сергей Львович Бертенсон, эмигрировавший в США ещё в 20-е годы:
«Театр наш пользовался большой любовью иностранных дипломатов, и если посетителем являлся какой-нибудь посол, то в мои обязанности входило угощать его чаем с пирожными в моем кабинете, прилегавшем к директорской ложе, которая предоставлялась „именитому гостю» с семьей. Разговаривая с иностранными дипломатами, я был всегда настороже по следующей причине: их обыкновенно сопровождал специально состоявший при управлении Государственных театров молодой человек по фамилии Борис Сергеевич Штейгер (бывший барон), прекрасно говоривший по-французски и по-немецки и обладавший хорошими светскими манерами, а неофициально бывший агентом ГПУ. Миссия этого экс-барона заключалась в том, чтобы следить за всеми разговорами послов с теми из представителей театров, с которыми они встречались, и, если нужно, доносить по начальству о характере разговоров. Предупрежденный о том, кем является Штейгер, я всегда осторожно взвешивал каждое сказанное мною дипломатам слово и развлекался тем, что называл Штейгера „барон», против чего он не только не протестовал, но даже улыбался какой-то подленькой улыбкой».
В дневнике Елены Сергеевны есть некие подробности о бароне. Она писала, что, когда Булгаковы уже утром уезжали с приема из американского посольства в Спасо Хаусе, то «с нами в машину сел незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывающий среди иностранцев, кажется, Штейгер». Занятное сочетание: «известный всей Москве» и «незнакомый нам»? Это с её-то, Елены Сергеевны, бесчисленными светскими связями! А барон с его изысканными манерами подсел в машину к незнакомым людям? Да и ехать им совсем не по пути: Булгаковым от Арбата направо, а барону Штейгеру от Арбата налево. И как всё это увязать с тем, что сцена казни барона была написана Булгаковым еще в конце 1933 года – за четыре года до действительного расстрела реального барона?
Тогда получается, что ключевой эпизод бала Воланда – казнь барона Майгеля! Руками своего персонажа Булгаков расправляется с предателем, выстраивая параллель: Мастер – Иешуа, Майгель – Воланд.
Итак, в романе Булгакова «благой» образ сатаны взят у масонов. Ведь в христианстве всё не так: диавол – это личностная сила, обладающая свободной, направленной волей ко злу…
Вспомним известное высказывание Достоевского: «Бог и дьявол воюют, а поле их битвы – сердце человека».
Сатана – он же Ангел Смерти, он же дурное побуждение, он величайший обвинитель рода людского, никто иной, как все тот же посланец Всевышнего…
Позитивное отношение Булгакова к Ангелу Смерти, являющимся главным героем романа, не имеет ничего общего с сатанизмом. Стихийно сложившийся культ булгаковского Воланда в каком-то смысле развивает масонскую трактовку «сатанизма»».
Смерть, одновременно и пугающая, и притягательная, становится, можно сказать, главным героем произведения Булгакова.
Булгаков вложил в уста Воланда вполне отчётливую концепцию, целиком соответствующую масонской: концепции «искр» добра и неизбежно покрывающих их «скорлуп» зла.
«Что бы делало твое добро, – спрашивал Воланд у Левия Матвея, – если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с неё исчезли тени?.. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым счастьем?»
Иными словами, противостоя Тьме, сам Свет всегда есть уже сочетание Света и Тьмы, как Жизнь всегда есть сочетание Жизни и Смерти. Без Смерти, которую Жизни приходится преодолевать, немыслима сама жизнь… Именно поэтому такого рода прозрения могут выговариваться в масонстве Ангелом Смерти.
Новым явилось то, что Булгаков Сатану представил в масонской традиции. Причем иудаизировал оба эти образа в связи друг с другом. Ведь именно Сатана подтверждал истинность описываемых в романе евангельских событий, то есть ту самую абсолютно точную версию «исторического Иисуса», которая пришла на смену традиционной христианской трактовке.
Чрезвычайно важным вкладом тамплиеров в эту общепризнанную концепцию, лежащую в основе всех мировых религий, стало утверждение, что абсолютного зла, как такового, существующего изначально, на самом деле не было и нет: зло есть такое же отсутствие добра, как невежество является отсутствием знания, а тьма – отсутствием света. Этот несколько неожиданный, однако строго логичный постулат не только снимал извечный дуализм учений Востока и его несколько искусственное разрешение в иудео-христианстве, но и впервые отводил человеку ведущее место в космосе, поднимая его в качестве свободного, обладающего собственной волей «собеседника и соработника Божия» в процессе длящегося сотворения мира.
Собственно говоря, русские тамплиеры предприняли попытку сведения воедино научного познания мира, которое в начале нашего века подошло к границам «запредельного», и того интуитивного опыта, накапливающегося на протяжении существования всего человечества, который определялся несколько расплывчатым понятием «мистического», будучи отвергнут как официальной теологией, так и опытной наукой. Подобное слияние было исторически предопределено хотя бы потому, что ни позитивная наука, ни одна из великих конфессий не отвечали на главный, самый основной вопрос, встававший перед каждым образованным человеком: что я есмь, откуда пришел, зачем живу и куда уйду? Согласимся, что в наше время, когда ценность человеческой жизни ежеминутно подвергается сомнению, когда мировые религии не могут дать вразумительного ответа на эти изначальные вопросы познания бытия, а если и дают, то он оказывается уничижительным для человека, – без решения этих вопросов активное, сознательное, творческое бытие становится если не бессмысленным, то затруднительным.
Стоит заметить, что в данных вопросах наука и религия оказались удивительно единодушны, отказываясь определить, человеческое «я», рассматривая его существование всего только как одноразовое следствие случайных факторов, не имеющего собственного значения и смысла (тем более – цели) в общей системе мироздания.
Замена материалистического «небытия» – «адом» или «раем», равно как и алогичность наказаний за прегрешения в жизни, куда человек оказывался вброшенным помимо собственного желания и не обладая ни знанием, ни свободой воли, – не этот ли абсурдный постулат, в большей степени, чем даже противоречия православной догматики данным современной науки о мире и человеке, оттолкнули от Церкви мыслящих людей, поскольку она их учила смирению, но не знанию?
Кризис веры в полуязыческой многоконфессиональной России намного опередил правовой кризис православной церкви, на протяжении столетий выступавшей верной опорой власти, своего рода «четвертым отделением Его Императорского Величества канцелярии», но никак не тем духовным пространством, куда могли стремиться мыслящие и образованные люди. Ведь именно этим объясняется тот жгучий интерес к иным учениям и конфессиям, который, возникнув в начале века в России, в наши дни приобретает поистине всеобъемлющий характер. Человеку нужна в жизни и в мире та «точка опоры», которой так не хватало еще Архимеду. Тамплиерство нашло ее в синтезе науки и мистики.
Однако, как выяснилось, существует обширный пласт жизни 20-х и 30-х годов нашего