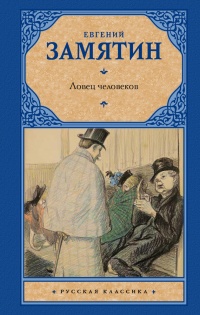Пижамы. Отцепись от меня! Пожары. Уже тепло. А что в четвертой? «Слышна»? Это полегче. Княжна нежна, мошна страшна. Времена, стремена, племена, семена, пламена, вымена — тьфу!
А ну-ка, с разгону: «бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, бу-бу-бу-бу на все времена, и могучая поступь державы…»
На этом патетическом месте меня настигает сигнал бедствия. Чудище стоит в песочнице с подозрительно задумчивым видом. Бросаю тетрадку и лечу на помощь — слава богу, успеваю высадить дите под кустик. Теперь бы снова замкнуть ее, дочурку мою бдительную, на песочницу и добить строфу.
Я перечитываю написанное и тихо-тихо матерюсь. Как ни крути, а если могучая поступь слышна на всей планете, это — землетрясение. Вздохнув, превращаю могучую поступь в мирную и снова топаю от печки: бу-бу-бу-бу, бу-бу-бу пожары, и отныне (молодец, Димочка!) отныне на все времена будет мирная поступь державы на прекрасной планете слышна!
Теперь осталось разобраться с пожарами, и строфа готова.
Последнее напряжение бровей — и готово: «отгорели сражений пожары…»
Перечитываю написанное со шкодливым чувством безнаказанности: моей фамилии под этим не будет ни в каком случае: подпишусь, по месту жительства, Бескудниковым — и концы в воду! Или Паскудниковым? Настроение заметно улучшается.
Полпервого, пора и честь знать. Мы медленно шагаем к подъезду. Чудище крепко держит меня за палец. Дома, стараясь не замечать дыма коромыслом, я начинаю забрасывать канцпринадлежности в «дипломат».
— Ир, — напоминаю уже от дверей, — буду к шести.
Ирка кидает на меня прощальный взгляд, одновременно декламируя считалку, раздевая Чудище и принюхиваясь к запахам на кухне. Бедняга, как она со всем справляется? Этот вопрос маячит на периферии сознания секунд десять — и исчезает без следа, едва я снова вылетаю на воздух. Теперь получить деньги, потом в редакцию — и на телефонный узел. Вперед, вперед!
До метро из наших губерний ехать полчаса, и надо провести их с пользой. Было бы не худо, например, забацать еще одну строфу. Но, как ни тужусь, не могу вспомнить даже ту, что забацал утром. Помучившись, выбрасываю белый флаг, тупо разглядываю расставленные вдоль шоссе натюрморты… Автобус трясет, и болит изнасилованная моя голова, и медленно ворочаются в ней культяпки мыслей — о протекающем кране, о долге за телефон и справке из ДЭЗа, о рублях, которые должен я и которые должны мне; вспоминаю, что так и не позвонил Косицкой.
Пашина смерть внезапно является мне в страшной своей ясности: вот я еду в автобусе, поручень холодит ладонь, за стеклом рыжий сентябрьский день — а его нет и никогда больше не будет.
К конечной я засыпаю и просыпаюсь только на улице от собственной неровной походки. Надо, черт возьми, когда-нибудь выспаться!
Институт, в котором я получаю свои аспирантские денежки, прячется в старом особнячке. Особнячок совсем маленький, но чтобы добраться до кассы, надо преодолеть несколько простых лестниц, одну винтовую и пяток коридоров самой прихотливой геометрии. Чего не сделаешь за деньги!
У окошка, разумеется, очередь — первый день выдачи. Делать нечего: становлюсь в хвост, вынимаю тетрадь и вдохновенно перечитываю четверостишие про мирную поступь. Потом внимательно гляжу в стену и перечитываю еще раз. Острое желание схватить автора этой бредятины за грудки и долго бить об эту стену головой вспыхивает во мне. Потом вспоминаю, что автор — я, и всякое желание пропадает вообще. Я понимаю, что дело худо, и возбудить себя на продолжение поступи мне не удастся.
— Работаете? — с уважением интересуется вставшая позади полноватая дама, кажется, с немецкой кафедры. Я киваю, улыбаясь рассеянно, как и полагается художнику в минуты полета духа. На мгновение сатана подмывает меня показать этой специалистке по трубадурам, над чем я работаю, и посмотреть на выражение ее лица, но я подавляю искушение.
— Не буду мешать, — интеллигентно произносит дама и понимающе улыбается. Ну-ну…
Тут я вспоминаю, что не дозвонился Пепельникову, и, застолбив место в очереди, бросаюсь бежать по коридорам. Через пару минут достигаю вахты.
Вахтерша на просьбу позвонить с казенного аппарата только что не рвется с цепи. Да удавись ты у своих ключей! У меня двушка есть.
— Алло! Пепельникова будьте добры.
— Секундочку.
В трубке — веселый женский смех и сладкий баритон, на ходу досказывающий солененькое.
— Слушаю… — говорит наконец баритон, поигрывая в нижних регистрах.
— Это Скворешников. Здравствуй, Костя.
— А, Димочка. Привет-привет.
Разговаривает со мною Пепельников так, словно он артист оперетты, а я его поклонница и встречаю у служебного входа с букетиком нарциссов. Между тем мы бывшие одноклассники, по каковой причине мне и перепала халтура — писать текст к монументальной праздничной программе под его режиссурой.
— Я по поводу песни.
— Жду, Димочка («Почему Димочка?»). Жду с не-тер-пе-ни-ем.
Я почти вижу, как он подмигивает девочкам в персональном, обклеенном собственными афишами кабинете.
— Послезавтра тебя устроит? — спрашиваю.
— Крайний срок, Димочка, — снисходит