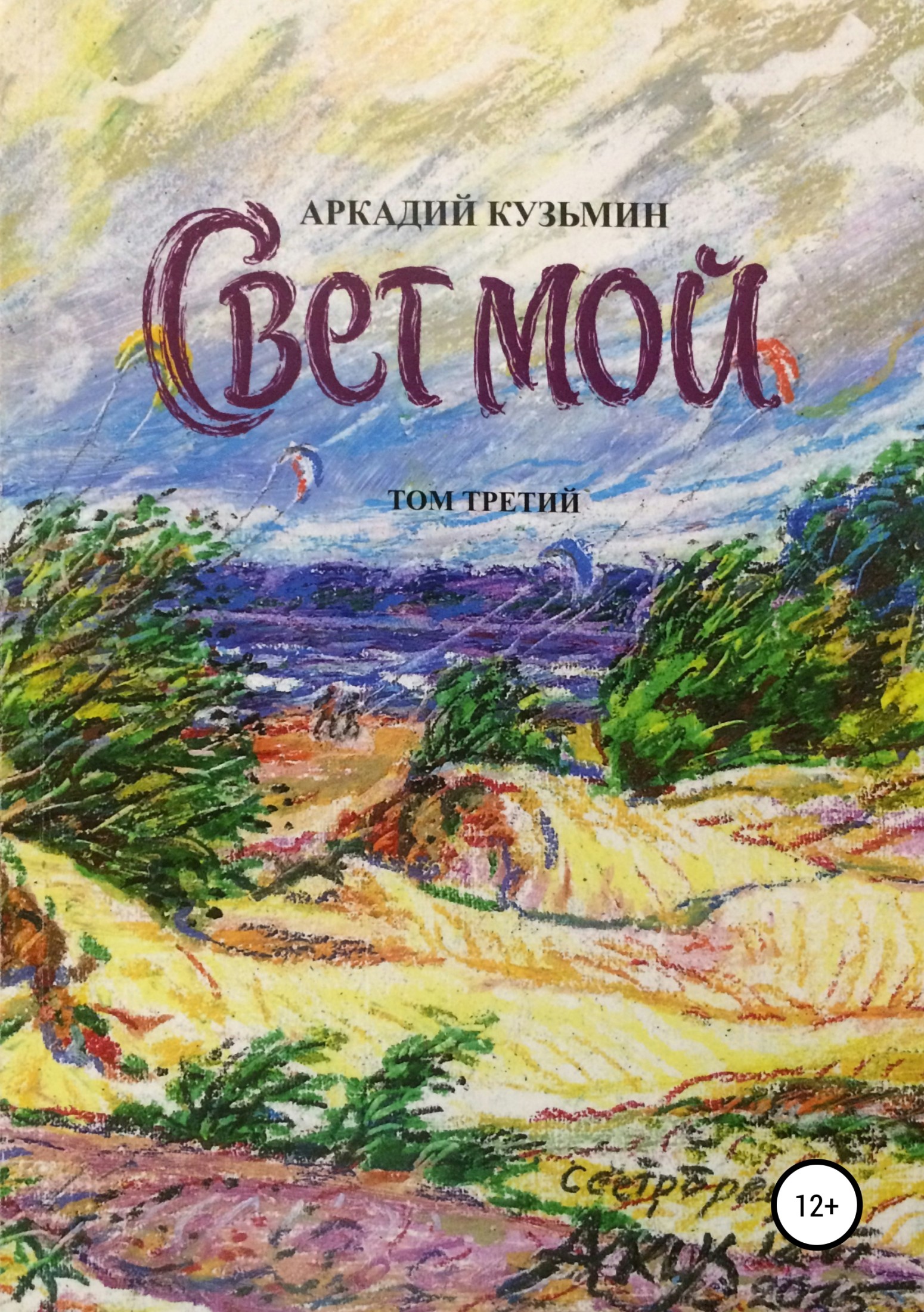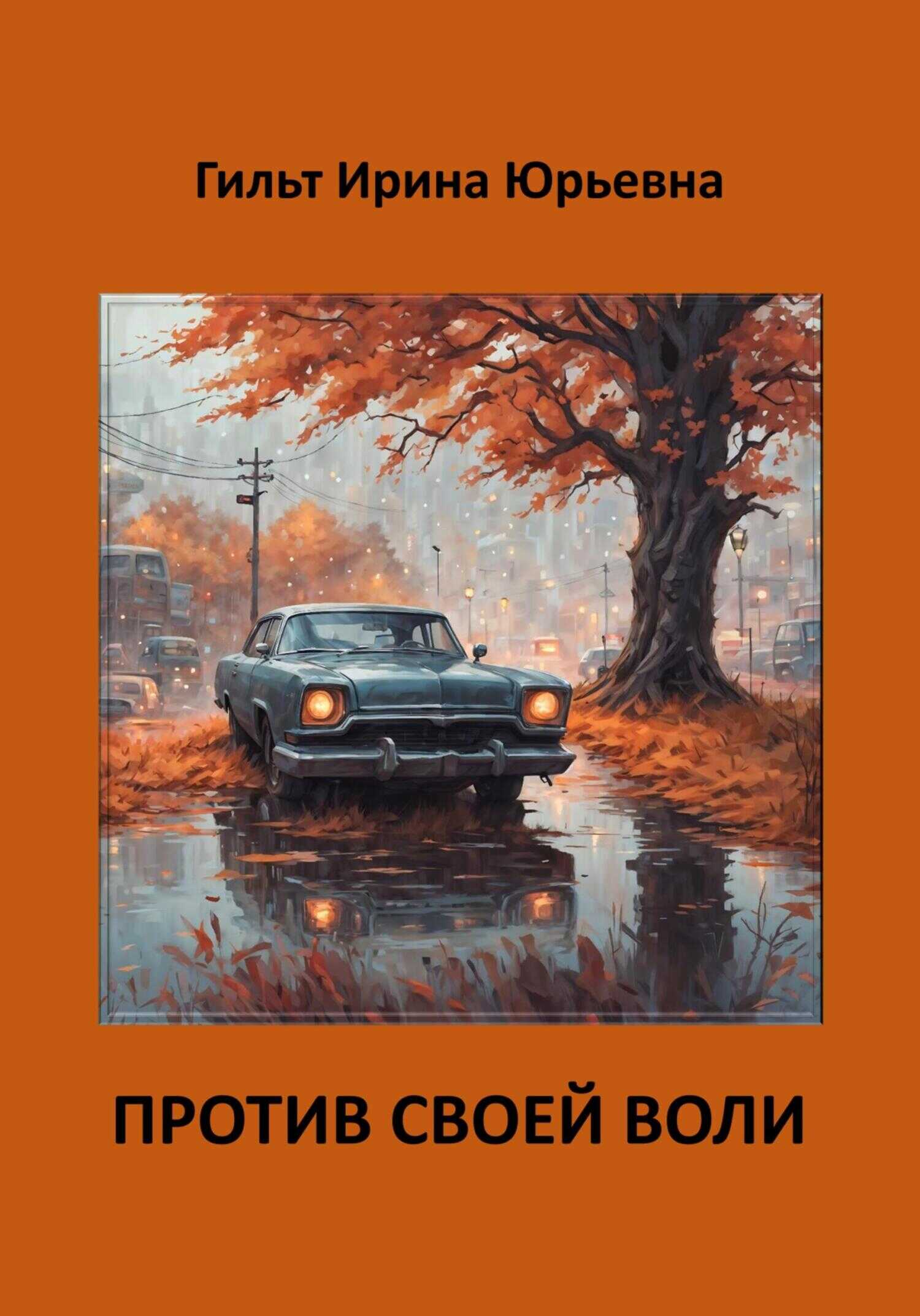начались скандалы: обнов она ему не справляла. В юности он старался сам на себя заработать. Раз они схватились в рукопашную. Так, что мачеха сбежала из дому. Без дочери – Полины семилетней. Ну, та ночевала у своей товарки, Дарьи, несколько ночей, домой не приходила – не показывалась. А потом Василий работал на заводе и не уследил, когда она и Полю забрала к себе: однажды он приходит с работы, а сестры дома нет.
Они не возвращались к себе домой неделю-другую, и тогда Василий пригласил в избу брата Трофима с семьей. Трофим охотно согласился, переехал к Василию. Но и с Трофимом все разладилось вскоре. На Виденье привел Василий абрамковского Цыгана. Стали выпивать вместе с Трофимом. Керосиновая лампа стояла на краю стола. Василий вскоре невзначай зацепил рукой лампу – она упала на пол и разбилась. Вскочил тут Трофим – горячий был, как и папенька: «А-а, ты такой-сякой, приводишь тут всяких мужиков…» Давай делиться. И спешно тогда Трофим начал строиться рядом. Строился толково, очень основательно…
– Все потом прибрали к рукам, – сказала Дуня, констатируя.
– Когда же революция свершилась (стало о ней слышно) и дошла и к нам, Степаниде вдруг занадобилось – она в суд советский обратилась, подала бумагу, – рассказывала Анна далее.
– На кого же? На папку?
– Стало быть. Значит, на раздел с ним жилья – этой бывшей мужниной избы, из какой в бега пустилась. Выкрутасничала баба – ой! И тот суд, значит, ей одну только кухню присудил – лишь то, что на Полю, ее дочку от Гаврилы полагалось здесь, но не на нее саму, как владелицу-хозяйку, пришедшую, значит, на все готовое сюда, к мужу. Вот как, значит, обернулось. Она, известно, просчиталась: разыграла себя такой обиженной (она разыгрывать умела) перед обществом, перед властью и думала, наверно, что первым номером пойдет, а получилось – сама себя наказала, высекла. После этого-то они с Полей уже стали в кухне жить. Отгородились стенкой от Василия. А вскоре – в двадцать третьем году – Василий за меня посватался, и я ему дала свое согласие, вошла в его неновую разделенную избу – две передние комнаты без печки еще. Здесь семнадцать-то лет и прожила я с ним – добро наживала. Вот где моя родина, мое кровное гнездо. А меня хотят изгнать и загнать куда-то, господи! Твоя воля, господи! – И призналась Анна после того, как перекрестилась, – как-то жалобно-стыдливо: – Сейчас меня что-то тянет в церковь, как в кино, видать, других или как читать книжки приманчивые. Соскучила я. С детства меня туда тянуло. И боюсь до дрожи грозу, например. Наш-то дедушка религиозный был. Ой! Когда гроза, например, собиралась, он дома обязательно клал круглый хлеб на стол и заставлял всех креститься. Примета такая: и окна все закрещивал – крестил. Чтобы, значит, гроза не навредила. И сейчас на улице небывало великая гроза, потому и я сейчас крещусь, крещусь и дрожу. Ох, только обошлось бы все. Век молиться буду, клянусь.
VI
– Мам, а мам, – попросила опять Наташа, отвлекая, или привлекая ее внимание, – ты лучше расскажи нам о самом интересном – как вы с папкой познакомились. А?
– Доченька, а я, кажись, уже рассказывала вам под бомбежками. И почудилось будто покраснела чуточку Анна, или стушевалась несколько.
– Ну, никак не полностью. Так дорасскажи. Нам интересно это знать. Все равно сидим… Закаменеть ведь можно.
Анна начала:
– За год до замужества я ехала в телеге по Заказнику, где была дедова земля, и моя лошадка вдруг чего-то испугалась, взбрыкнула и понеслась по кустарнику, бездорожью напролом. Я вся потерялась вмиг, и вожжи из моих рук выпали… Только вдруг парень спереди схватил кобылку за узду и оглобли. Скомандова по-мужски: «Ну, не балуй! Не дури!» Она даже вздыбилась, попятилась, затанцевала. Был это Василий, ловкий, сильный, хоть и не великан вовсе, с мелкими чертами лица. В округе все драчуны его боялись, слушались всегда.
– Мы-то уже помним, – сказал Антон, – как к нему (под окна) приходили такие и клянчили: «Дядя Вася, отдай финку, я больше не буду…»
– А он в ту пору лес валил, возил, пилил, колол и продавал на рынке – один на паре лошадей. Ну, потом, когда я уже согласилась быть его женой, он обрадовался очень: он был стеснительный и совестливый и счел, что из-за его худой – бунтарской – славы уж никто из невестившихся девушек не пойдет за него замуж. И родители-то всех невест будут против. Нет, мои бабушка и дедушка тоже, как и я, изъявили свое согласие. Дедушка по-здравому, по-жизненному рассудил: «Счастье в ее руках – она сумеет с ним совладать. Она будет заместо матери для младших сестер своих». Так предугадано и стало. Сестры, как к матери заглядывали ко мне: «Анна, надо это сшить, или скроить; Анна, надо это сделать, помоги». Потом свои дети – вы – пошли. Один за другим. Люльку мне тетка Нюша дала – с отцепом. Двое на таком отцепе качались, двое – на жердине, какую Василий приладил, а трое потом (как и жердинка эта прикончилась) – в кроватке, собранной им же, отцом. Ты, Наташа, качала ее ногой – сама полетела в перековырку и кровать с Верой в перековырку. Думали, что Вера будет горбатой. По врачам сколько ходили, ой!
И не видала жизни я. Приданого у меня было мало, а у Василия – и того меньше. Гол сокол. Дедушка тогда еще сказал со смешком: «О-о, у нашей родни много везде знакомых; пойдет по ним Анна – по кусочку наберет, проживет». А Василий тут же и добавил: «И мне уж кусочек достанется-перепадет». Поедет он, бывало, в лес, навозит деревьев, нащепает дранку, продаст ее, и, глядишь, приобретем что-нибудь. И хозяйственный Трофим даже удивлялся на него, брата: «Вот какой молодой хозяин-то! Толковый!» Тот норовом угодил в отца: жену гонял, гонял детей. Опускался в водку, стекла бил. А Василий, если и выпьет, случалось, то не шумит, уляжется прямо на полу тихо-спокойно, не нужно за ним ухаживать – бузить не будет, все будет хорошо. Ну, а руки золотые. Ой! Все, что ни задумает, то и сделает, смастерит. И печку топил, и хлеб пек, и коров доил – когда я заболела. И говорил после: «Все буду делать, но коров доить больше не буду. Нет, хуже всего – корову доить». Конечно, руки мужские – не женские. Корова чувствует. Да сноровка нужна. И подход к той же скотине. Ласка, терпение.