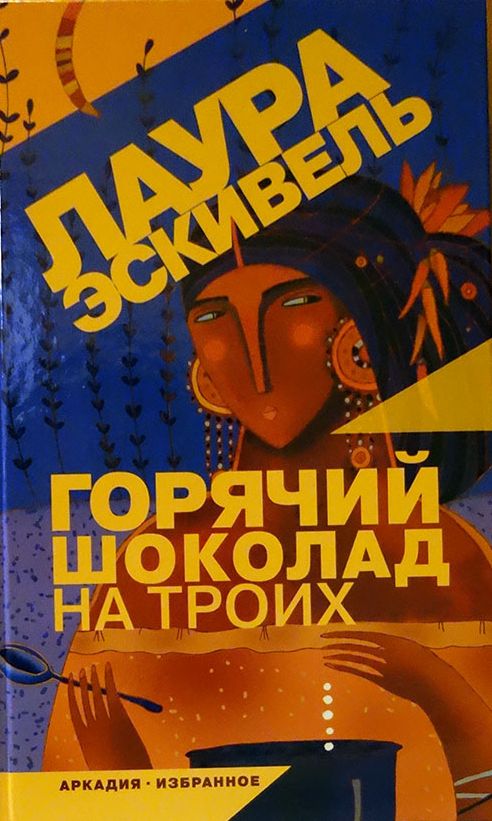глаза, рассматривает ее всю, ей трудно скрыть смятение. «Барышня, вы не взглянете, не сменить ли корпию в повязке?» Она колеблется: «Я не знаю… Спрошусь у батюшки…»
«Я, разумеется, заплачу».
Фульк берется за цепь, к которой он прикован, подтягивается и встает. Бедро болит дико. На щиколотке — тяжелые кандалы, замкнутые металлическим штырем. Он, хромая, делает несколько шагов, как жеребец на корде. Вроде бы нога не сломана. Мясо вокруг повязки посинело. Здорово его рубанули. «Скажи, тюремщица, что слышно про меня в городе? Что говорят синие? Вот три су за хлеб».
Фульк смотрит на медные монеты, прежде чем отдать ей; на аверсе — весы правосудия, на реверсе девиз: «Люди равны перед законом». Су отчеканены Конвентом. Тем самым, что топит вандейцев в Луаре. Какая ложь. Люди равны перед Богом. И то еще как посмотреть.
Девушка увязала монеты в носовой платок. Она отводит взгляд, отстраняется от него и говорит: «Будто бы… будто бы завтра вы умрете. Люди говорят… вас утопят».
Фульк все стоит у стены, держась за кольцо. Он чувствует, что бледнеет. Утопят… Как выводок котят, которых швыряют в пруд. Утопят. Юноша чувствует, как тоскливо сжимается грудь, он думает о матери и вдруг начинает шепотом привычно молить Бога. Дочь тюремщика смотрит на него уже с порога. Ей хочется его утешить.
«Не беспокойтесь, сударь, я только схожу за корпией и вернусь».
Фульк не садится, а почти падает. Видит бог — сражаться и воевать у него мужества хватает. Видит бог — он готов на смерть за веру и короля. Бог видит, как страшно ему умереть в оковах, утонуть в трюме.
Девушка возвращается с тряпьем и миской. Она подходит к Фульку близко, вплотную. Опускается на колени возле него. Он чувствует ее запах, запах труда и дыма. Она бережно снимает повязку, убирает черные от спекшейся крови лоскуты, промывает рану — осторожно, тихонько, как гладят ребенка по голове; Фульк сжимает зубы — но не от боли; он кладет ладонь на спину девушки, он ощущает ее дыхание, под кожей слышится биение сердца, — на самом деле это пульсирует его кровь.
«Если суждено мне завтра умереть…» — думает он, потом шепчет ей на ухо: «Если суждено мне завтра умереть…»
У дочери тюремщи ка вспыхивают щеки. От жары ли? От холода? От ладони узника, лежащей на спине?
«…Поможешь мне бежать?»
Она вздрагивает, как ужаленная, опускает глаза. «Но как? Как, сударь? Как же вам помочь…» Ее лицо обращено к нему.
«Разомкни кандалы на ноге…»
«Простите меня, сударь, я не могу, не умею».
«Они меня утопят, сжальтесь».
Юности отвратительна смерть. Тюремщица содрогнулась, услышав слово «утопят»; секунду она смотрит, как за окном переливается металлом Луара под низким облачным небом. Круглобокие баржи идут в Сен-Назер. Стрелка острова совсем близко. Она знает, что, если достать молоток и зубило, кандалы можно отомкнуть. А что потом? Он ранен, далеко не уедет. Его наверняка поймают снова.
«Сударь, умеете вы плавать?»
«Понадобится — сумею, не бойся! Рана не помеха, я буду грести руками».
«Придется переплыть Луару… Плыть вдоль кофейного склада, потом к югу, до Резе. Там вы найдете друзей».
Она сумеет снять с него кандалы, провести его к реке через подземный тоннель; она представляет, как его подхватит течением и понесет на запад, как несет лодки; она видит, как он из последних сил выберется на берег и окажется в Трантему среди рыбаков.
«Сегодня, как стемнеет, — говорит она — Отец.»
«Что — отец?»
«Когда ом напьется пьяным, в таверне»
«А стража?»
«Проход к реке никто не сторожит».
Фульк чувствует, как возвращается жизнь; ж мой смеркается рано, — он прижимает к себе де вушку, ее сердце бьется так сильно, словно сейчас выскочит из груди.
«А вы вернетесь?»
«Вернусь, когда мы одержим победу. Даю вам слово». Он берет ее руку. Она встает так быстро, так резко, что кружится голова.
День тянется долго. День тянется бесконечно. Она не знает, правильно ли то, что она делает, или неправильно, но вспоминает, как ладонь Фулька коснулась ее тела, и сомнения исчезают. С наступлением темноты главный тюремщик, как обычно, идет пьянствовать в таверну. Дочь поднимается в камеру, неся узнику хлеб и воду, в кармане у нее — молоток для кандалов.
Она бы затруднилась объяснить свои действия. Юный дворянин дрожит от нетерпения.
«Ешьте, пока я снимаю оковы».
Он ест. Несколько ловких ударов молотком — и затычка выбита. Фульк знает, что через десять шагов рана откроется, что повязка набухнет кровью, что путь через реку будет долог и мучителен.
И может так статься, что он все же погибнет в воде. Или убьют охранники. Он вздыхает. На все воля Божья! За Бога и короля!
«В Резе спросите, как найти „Либедан“. Это постоялый двор… Там будут… те, кто вам поможет».
В конце туннеля — низкий скользящий свет, отражение хромой луны и запах тины.
Прекрасная тюремщица указывает ориентир на том берегу, и узник тут же бросается в Луару.
Фульк Валер де Коэкс преодолевает реку едва ли не единым гребком — ему помогает течение — и, дрожа, выходит возле Резе.
Он в последний раз вспоминает о спасшей его девушке. Клянется, что непременно вернется в Нант и возьмет ее в жены, — где ему знать, что в скором времени он погибнет, получив прямо в лоб республиканскую пулю.
В тот миг, когда он в последний раз представляет себе лицо и зеленые глаза дочери тюремщика, внезапно каким-то волшебством из тумана, закрывшего Луару, как дальний зов, приглушенный расстоянием, раздается перезвон — это Нант бьет во все свои колокола.
IV
ЕЖЕГОДНЫЙ ПИР ПОГРЕБАЛЬНОГО БРАТСТВА
«Добрые мои могильщики и скорбные трудяги, магистр Сухопень, казначей Гром-Сопля, церемониймейстер Биттезеер, друзья и собратья! Вот и собрались мы на новую ежегодную встречу, дабы праздновать два дня кряду очередную передышку в нашем скорбном ремесле, ту паузу, что с незапамятных времен дарует нам Судьба, — два дня, в течение которых мы не предаем тела земле и когда сама Смерть дозволяет нам радоваться, позабыв общеизвестную истину о том, что именно она рано или поздно примет нас в свои объятия и станет нашей последней любовницей, общей для всех. Пришла пора открыть ежегодный пир нашего Братства, который проходит каждый год с тех пор, как стоит мир, — мы будем кутить, набивать брюхо и заливать в глотку вино. Возрадуемся, скорбные братья мои, смените унылые мины на гомерический хохот! Но прежде, подобно предшественникам