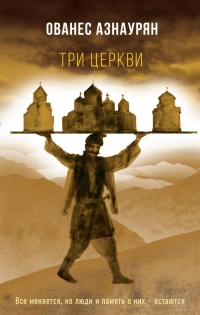– Испания, – говорил де Фокса, – чувственная и тяготеющая к загробному миру страна. Но не страна привидений. Родина привидений – Север. На улицах Испании можно встретить мертвецов, но не привидения.
И он рассказал о запахе смерти, превалирующем во всем испанском искусстве и литературе, о мертвенных пейзажах Гойи, живых трупах Эль Греко, о гниющих лицах королей и грандов Испании, написанных кистью Веласкеса на фоне золоченой архитектуры, пурпура и бархата в зеленой, золотистой тени дворцов, церквей и монастырей.
– В Испании, – сказал Вестманн, – нередко встречаются призраки. J’aime beaucoup les spectres espagnols. Ils sont très gentils, et très bien élevés[157].
– Это не призраки, – возразил де Фокса, – это мертвецы. Это не воплощенные образы, это существа из плоти и крови. Они едят, пьют, любят и смеются как живые. Но это мертвые тела. Они выходят не ночью, как все призраки, а среди бела дня, среди солнечного дня. Что делает Испанию страной глубоко живой, так это ее мертвецы, которых встретишь шагающими по дороге, сидящими в кафе, коленопреклоненными в церковной молитве. Они проходят неторопливо и молча, сверкая черными очами на зеленом лике, среди веселящейся толпы в городах и весях по праздничным и базарным дням, среди живого люда, который смеется и любит, поет и пьянствует. А те, кого вы зовете призраками, не испанцы, это чужеземцы. Они приходят издалека, неизвестно откуда, и приходят, только если вы окликнете их по имени или призовете магическим словом.
– Вы верите в магическое слово? – спросил с улыбкой Вестманн.
– Каждый добрый испанец верит в него.
– И знаете хоть одно? – спросил Вестманн.
– Я знаю много, но одно обладает сверхъестественной силой и вызывает призраков.
– Произнесите, хотя бы шепотом.
– Я не смею. Боюсь, – сказал де Фокса и слегка побледнел, – это самое страшное и опасное слово испанского языка. Ни один настоящий испанец не рискнет произнести его. Священное слово: услышав его, призраки выходят из небытия и идут к тебе. Фатальное слово для того, кто его произносит, и для того, кто слышит. Положите на этот стол мертвеца, и я не моргну глазом. Но не зовите призрака, не открывайте ему дверь. Я умру от страха.
– Скажите нам, по крайней мере, значение этого слова, – сказал Вестманн.
– Это одно из названий змеи.
– У змей благозвучные имена, – сказал Вестманн, – в трагедии Шекспира Антоний называет Клеопатру нежным змеиным именем.
– О! – воскликнул де Фокса и побледнел лицом.
– Что с вами? Вы не смеете произнести? А из уст Антония оно звучит с медовой сладостью. Никто никогда не называл Клеопатру именем нежнее. Подождите, – добавил Вестманн, довольный своей жестокостью, – думаю, я точно вспомню слова, вложенные Шекспиром в уста Антония…
– Замолчите, прошу вас! – вскричал де Фокса.
– Если мне не изменяет память, – продолжал Вестманн с жестокой улыбкой, – Антоний звал Клеопатру…
– Ради Бога, замолчите! – крикнул де Фокса. – Не вздумайте произнести это слово громко. Это магическое слово нужно проговаривать тихо, вот так… – и, едва шевеля губами, произнес: – Culebra[158].
– Ах, змея! – сказал, смеясь, Вестманн. – И вы пугаетесь такой малости? Слово как слово, я не вижу в нем чего-то таинственного и ужасного. Если не ошибаюсь, – добавил он, подняв глаза к потолку, будто пытаясь вспомнить, – Шекcпир использовал слово «snake», оно звучит не так нежно, как испанское «culebra». О mi culebra del antiguo Nilo…[159]
– Не нужно повторять, прошу вас, – сказал де Фокса, – это слово приносит несчастье. Сегодня ночью умрет кто-то из нас или из близких.
В этот момент открылась дверь, на стол подали великолепного лосося из озера Инари, розового лосося, нежного и сверкающего, светящегося сквозь потрескавшуюся, покрытую серебристой чешуей шкуру, переливающуюся тонкими зелеными и бирюзовыми тонами – они напоминали древние шелка, в какие, по словам де Фокса, одевали статую Мадонны в испанских сельских церквях. Похожая на рыбью голову с натюрморта Брака, голова лосося лежала на тончайших травах, – такие прозрачные, как женские волосы, водоросли растут в реках и озерах Финляндии. Вкус рыбы вызывал далекое воспоминание о водах, лесах и облаках, а во мне – еще и воспоминание об озере Инари летней ночной порой, освещенном бледным арктическим солнцем озере под зеленым, по-детски нежным небосводом. Розовый цвет, пробивавшийся между серебристой чешуей лосося, был цветом облака, когда ночное солнце замирает на краю горизонта, как апельсин на подоконнике, а легкий ветерок шумит в листьях деревьев, в светлых водах, в прибрежной траве, легко пробегает через реки, озера, через безбрежные леса Лапландии; он того же розового цвета, что мигает, живой и глубокий, в серебряной ряби на глади озера Инари, когда солнце посреди арктической ночи бредет по зеленому небу, прочерченному тонкими синими венами.
Лицо де Фокса окрасилось тем же розовым, что проступал между чешуйками лосося.
– Жаль, – сказал он, – что знамя СССР не такого же розового цвета!
– Кто знает, что случилось бы с бедной Европой, – сказал я, – если бы знамя СССР было розового цвета лосося и dessous des femmes[160].
– К счастью, – сказал Вестманн, – в Европе все выцветает. И очень вероятно, что мы катимся в Средневековье розового лососевого цвета.
– Я часто спрашиваю себя, – сказал де Фокса, – какую функцию будут нести интеллектуалы нового Средневековья? Бьюсь об заклад, они воспользуются возможностью и еще раз попытаются спасти европейскую цивилизацию.
– Интеллектуалы, – сказал Вестманн, – неисправимы.
– Старый настоятель монастыря в Монтекассино, – сказал я, – тоже часто задается этим вопросом.
И рассказал, как граф Гавронский (польский дипломат, женатый на Лючане Фрассати, дочери сенатора Фрассати, в то время бывшего послом Италии в Берлине) бежал в Рим после немецкой оккупации Польши; временами он проводил целые недели в лесах аббатства. Старый архиепископ дон Грегорио Диамаре, аббат монастыря в Монтекассино, беседуя однажды с Гавронским о варварстве, в которое война грозила бросить Европу, заметил, что в самые темные времена Средневековья монахи аббатства спасали западную цивилизацию, переписывая древние латинские и греческие манускрипты. «А что сегодня должны делать мы, чтобы спасти культуру Европы?» – заключил почтенный аббат. «Faites-les retaper à la machine par vos moines»[161], – ответил Гавронский.