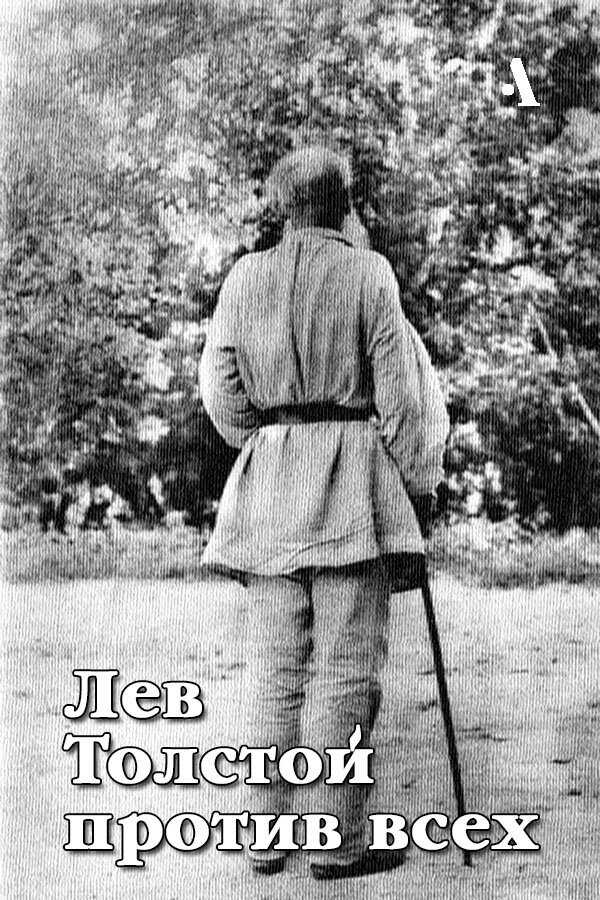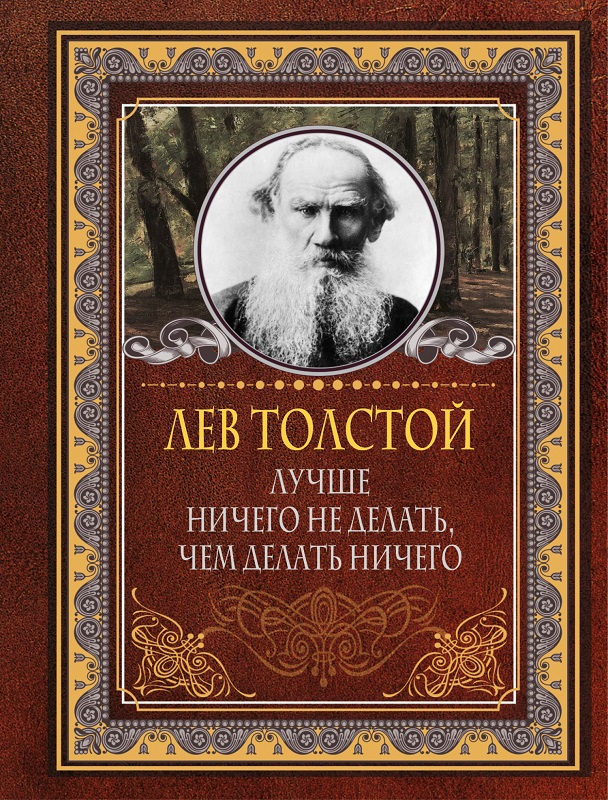ее и в невидимое будущее.
Говорят: болезнь, старость, дряхлость, впадение в детство есть уничтожение сознания и жизни человека. Для какого человека? Я представляю себе, по преданию, Иоанна Богослова, впавшего от старости в детство. Он, по преданию, говорил только: братья, любите друг друга! Чуть двигающийся столетний старичок, с слезящимися глазами, шамкает только одни и одни три слова: любите друг друга! В таком человеке существование животное чуть брезжится, – оно всё съедено новым отношением к миру, новым живым существом, неумещающимся уже в существовании плотского человека.
Для человека, понимающего жизнь в том, в чем она действительно есть, говорить об умалении своей жизни при болезнях и старости и сокрушаться об этом – всё равно, что человеку, подходящему к свету, сокрушаться об уменьшении своей тени по мере приближения к свету. Верить же в уничтожение своей жизни, потому что уничтожается тело, всё равно, что верить в то, что уничтожение тени предмета, после вступления предмета в сплошной свет есть верный признак уничтожения самого предмета. Делать такие заключения мог бы только тот человек, который так долго смотрел только на тень, что под конец вообразил себе, что тень и есть самый предмет.
Для человека же, знающего себя не по отражению в пространственном и временном существовании, а по своему возросшему любовному отношению к миру, уничтожение тени пространственных и временных условий есть только признак большей степени света. Человеку, понимающему свою жизнь, как известное особенное отношение к миру, с которым он вступил в существование и которое росло в его жизни увеличением любви, верить в свое уничтожение всё равно, что человеку, знающему внешние видимые законы мира, верить в то, что его нашла мать под капустным листом и что тело его вдруг куда-то улетит, так что ничего не останется.
Глава XXXI.
ЖИЗНЬ УМЕРШИХ ЛЮДЕЙ НЕ ПРЕКРАЩАЕТСЯ В ЭТОМ МИРЕ.
Но еще более, не скажу с другой стороны, но по самому существу жизни, как мы сознаем ее, становится ясным суеверие смерти. Мой друг, брат, жил так же, как и я, и теперь перестал жить так, как я. Жизнь его была его сознание и происходила в условиях его телесного существования; значит, нет места и времени для проявления его сознания, и его нет для меня. Брат мой был, я был в общении с ним, а теперь его нет, и я никогда не узнаю, где он.
«Между ним и нами прерваны все связи. Его нет для нас, и нас также не будет для тех, кто останется. Что же это, как не смерть?» Так говорят люди, не понимающие жизни; люди эти видят в прекращении внешнего общения самое несомненное доказательство действительной смерти. А между тем ни на чем яснее и очевиднее, чем на прекращении плотского существования близких людей, не рассеивается призрачность представления о смерти. Брат мой умер, что же сделалось? Сделалось то, что доступное моему наблюдению в пространстве и времени проявление его отношения к миру исчезло из моих глаз и ничего не осталось.
«Ничего не осталось», – так бы сказала куколка, кокон, не выпустивший еще бабочку, увидав, что лежавший с ним рядом кокон остался пустой. Но кокон мог бы сказать так, если бы он мог думать и говорить, потому что, потеряв своего соседа, он бы уже действительно ничем не чувствовал его. Не то с человеком. Мой брат умер, кокон его, правда, остался пустой, я не вижу его в той форме, в которой я до этого видел его, но исчезновение его из моих глаз не уничтожило моего отношения к нему. У меня осталось, как мы говорим, воспоминание о нем.
Осталось воспоминание, – не воспоминание его рук, лица, глаз, а воспоминание его духовного образа.
Что такое это воспоминание? такое простое и, как кажется, понятное слово! Исчезают формы кристаллов, животных, – воспоминания не бывает между кристаллами и животными. У меня же есть воспоминание моего друга и брата. И воспоминание это тем живее, чем согласнее была жизнь моего друга и брата с законом разума, чем больше она проявлялась в любви. Воспоминание это не есть только представление, но воспоминание это есть что-то такое, что действует на меня и действует точно так же как действовала на меня жизнь моего брата во время его земного существования. Это воспоминание есть та самая его невидимая, невещественная атмосфера, которая окружала его жизнь и действовала на меня и на других при его плотском существовании, точно так же, как она на меня действует и после его смерти. Это воспоминание требует от меня после его смерти теперь того же самого, чего оно требовало от меня при его жизни. Мало того, воспоминание это становится для меня более обязательным после его смерти, чем оно было при его жизни. Та сила жизни, которая была в моем брате, не только не исчезла, не уменьшилась, но даже не осталась той же, а увеличилась и сильнее, чем прежде, действует на меня.
Сила его жизни после его плотской смерти действует так же или сильнее, чем до смерти, и действует как всё истинно живое. На каком же основании, чувствуя на себе эту силу жизни точно такою же, какою она была при плотском существовании моего брата, т. е. как его отношение к миру, уяснявшее мне мое отношение к миру, я могу утверждать, что мой умерший брат не имеет более жизни? Я могу сказать, что он вышел из того низшего отношения к миру, в котором он был как животное, и в котором я еще нахожусь, – вот и всё; могу сказать, что я не вижу того центра нового отношения к миру, в котором он теперь; но не могу отрицать его жизни, потому что чувствую на себе ее силу. Я смотрел в отражающую поверхность на то, как держал меня человек; отражающая поверхность потускнела. Я не вижу больше, как он меня держит, но чувствую всем существом, что он всё точно так же держит меня и следовательно существует.
Но, мало того, эта невидимая мне жизнь моего умершего брата не только действует на меня, но она входит в меня. Его особенное живое я, его отношение к миру становится моим отношением к миру. Он как бы в установлении отношения к миру поднимает меня на ту ступень, на которую он поднялся, и мне, моему особенному живому я, становится яснее та следующая ступень, на которую он уже вступил, скрывшись из моих глаз, но увлекая меня за собою. Так я сознаю для