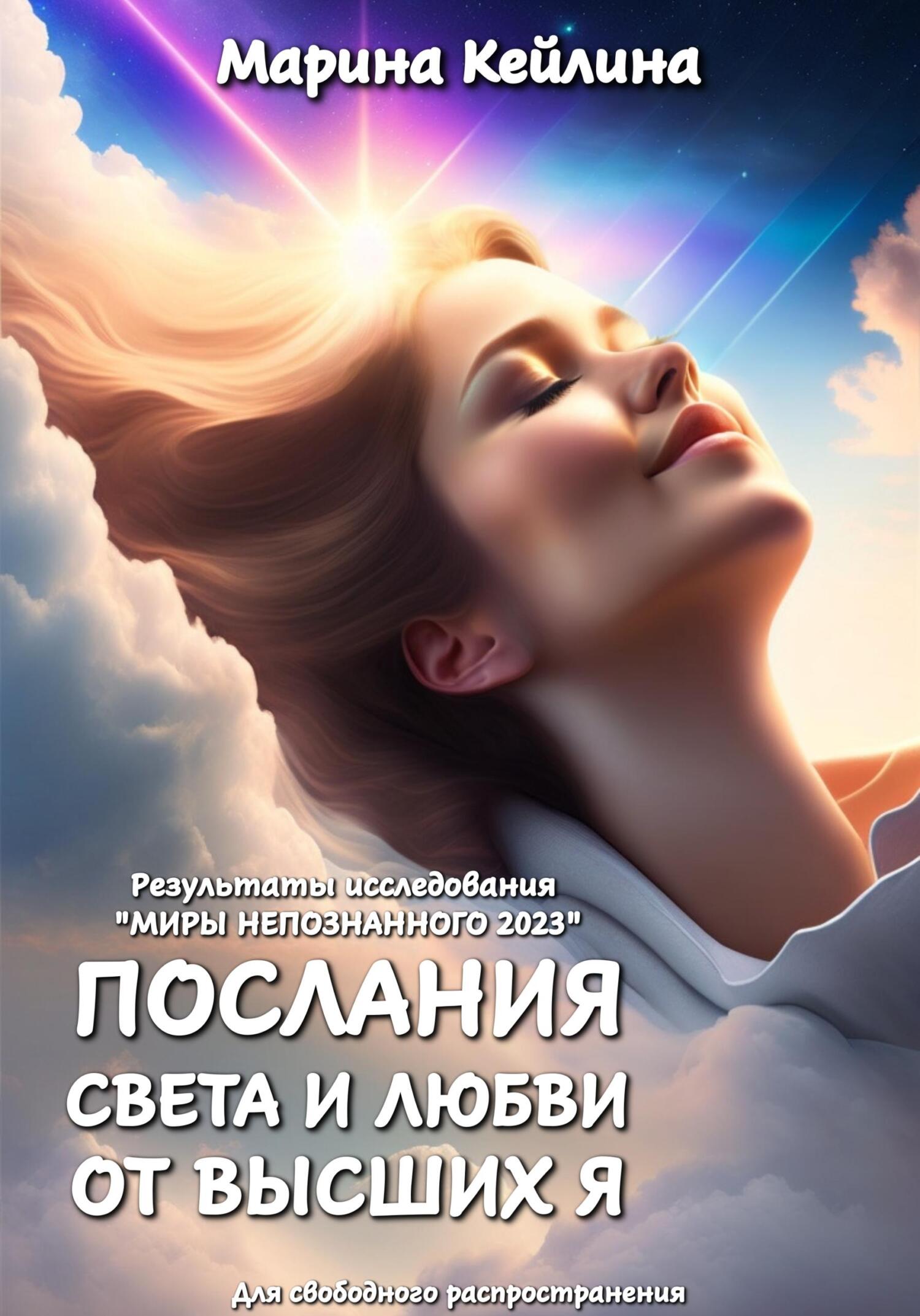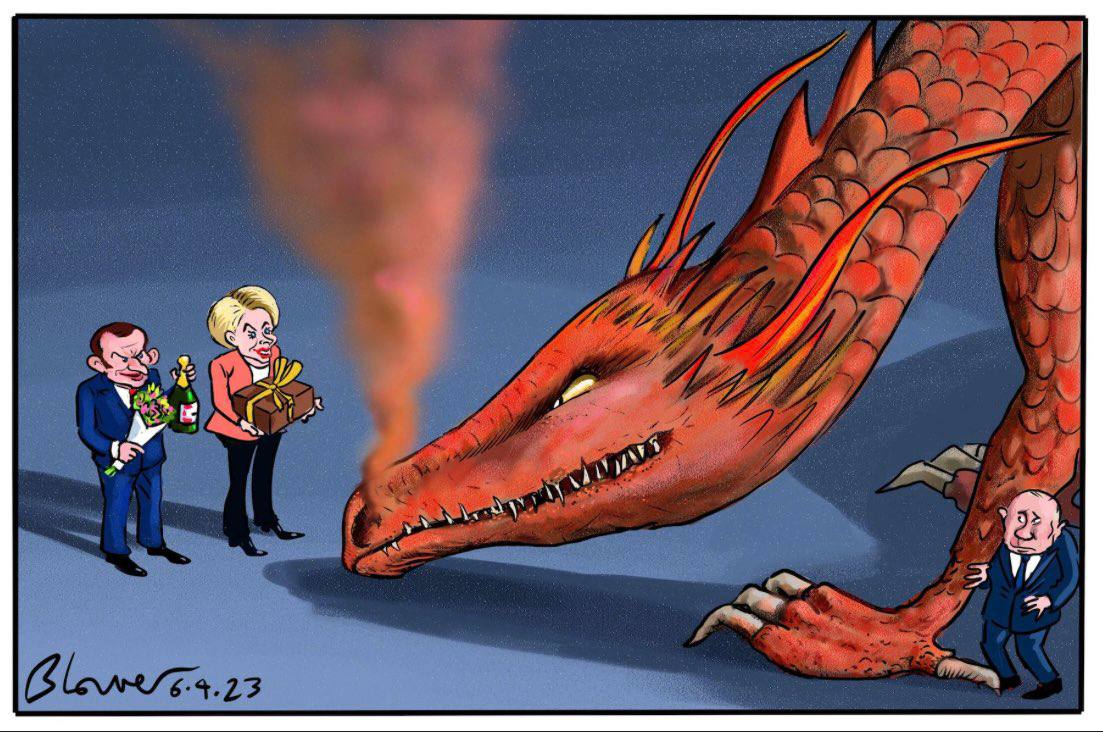τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων σπουδὴ καὶ φιλοτιμία, εἰ ἐν οἰκοδομήμασιν, εἴτε ἐν πλούτῳ, εἴτε ἐν ἡγεμονίᾳ, εἴτε ἐν ἀρχαῖς, εἰς τοὔσχατον πάσης εὐδαιμονίας προελθοῦσαι, τέλος, ὥσπερ εἰ μηδὲ ἐγεγόνει τὴν ἀρχὴν εἰς τὸ μηδὲν ὄντως ἀπερρύη, ἐγείραντος διὰ τῆς πίστεως ἀπὸ τούτων ἄλλα τοῦ Θεοῦ ἅπερ ἔδοξεν ἂν τῷ πολλῷ καλλίῷ, καὶ ἅ δυνάμεθα νοῦν ἔχοντες μᾶλλον θαυμάζειν τε καὶ περὶ πλείονος ποιεῖσθαι. Ὑγίαινε.
Письмо Деметрию Хрисолоре. Patrologiae cursus completus / Ed. J.-P. Migne. Series Graeca, vol. xlvi. Paris, 1866. Cols. 57–60 (c. 81–82)
Мануил Хрисолора желает здравствовать благороднейшему и славнейшему мужу Димитрию Хрисолоре.
Можешь ли ты поверить, что я, гуляя по этому городу, заглядывался то на одно, то на другое, словно какой-нибудь потерявший голову гуляка, и взбирался на самый верх стен зданий, чтобы посмотреть, не видно ли сквозь окна чего-нибудь красивого? Да я и в молодости подобным не занимался, и порицал в других! А теперь, на старости лет, я уж и не знаю, почему меня на это потянуло. Ты думаешь, я говорю загадками. Тогда слушай разгадку: я занимаюсь этим не из желания увидеть красоту живых тел, но красоту камней, мраморов и подобий. Ты можешь возразить, что это еще страннее первого. Мне тоже не раз приходилось размышлять о том, что нас нисколько не восхищают конь, собака или лев, которых мы видим каждый день. Нас не так уж поражает их красота и мы не придаем большого значения их внешнему виду. То же самое касается и дерева, и рыбы, и петуха, да и людей, от вида некоторых из которых мы содрогаемся. Вместе с тем, если мы видим изображение коня, быка, какого-нибудь растения, птицы, человека, да если угодно и мыши, и червяка, и комара или еще какой угодно дряни, мы приходим в большое возбуждение от этого зрелища и придаем ему большую ценность. И хотя эти изображения, конечно, не могут быть точнее оригинала, их хвалят тем более, чем более они похожи на свои образцы. Мы проходим мимо живой красоты, но поражаемся красоте изображений, и нас не особенно волнует, насколько изящно изогнуты клюв настоящей птицы или копыто настоящего коня. Но красиво ли развевается грива бронзового льва, хорошо ли видны прожилки на листе каменного дерева и проступают ли сквозь камень жилы и сосуды на голени статуи – вот это тешит людей, и многие с радостью отдали бы нескольких живых чистокровных коней за одного каменного работы Фидия или Праксителя, пусть даже треснувшего и изувеченного. Да и нет ничего дурного в том, чтобы любоваться красотой статуй и живописи, ведь это являет некоторое благородство разглядывающего их разума. Однако если этот разум любуется на красоту женщин, это сразу становится распутством и пороком. Так в чем же причина? Причина в том, что, глядя на произведения искусства, мы восхищаемся не телесной их красотой, но красотой ума их создателя. Он, подобно хорошо сформованному воску, воспроизводит в камне, дереве, бронзе или красках оттиск того, что через глаза воспринял в воображение души. И как каждая душа располагает свое тело, при всех его слабостях, так, что в нем видны все ее состояния: печаль, радость или гнев, так и мастер обрабатывает природу камня, столь неподатливую и жесткую, бронзы или красок разного рода, так что с помощью мастерства и уподобления образцу в них можно увидеть отображения страстей его души. Более того, художник может запечатлеть их в этих материалах, даже если он сам не весел и, может быть, вовсе не радостен, не гневается и не печалится, и вообще не расположен к эмоциям, или расположен к чувствам, противоположным тому, что изображает. Именно этим и удивляет нас искусство. Я думаю, и в природных вещах так же: созерцание Ума, который создал их и каждый день создает, и произвел сами формы вещей и их красоту, из которой происходит красота всего на земле, вызовет безграничное восхищение. Именно это и есть истинный способ философствовать: такое созерцание и такая любовь к священному и разумному бытию превосходят всякое наслаждение. Вид и подобий, и тем более настоящих вещей, столь прекрасных и разумно устроенных, заставляет нас подражать Уму-демиургу. И если в подобиях явлено благородство их создателя, при том, что у него были внешние образцы и он пользовался вспомогательными средствами и уже существовавшей материей, то насколько больше обнаруживается благородство того Ума, что произвел не только саму материю и формы, но и наш ум, чтобы он воспроизводил формы вещей и делал то, что выше его возможностей! Впрочем, зачем я говорю об этом тебе, ведь ты знаешь все это лучше меня. Я хотел сказать, что этот город способен сподвичь наше созерцательное начало к таким и еще более божественным вещам. Что же касается нравственного начала, то все честолюбивое рвение людей этого города к внешнему, как в строительстве, так и в богатстве, превосходстве и власти, дошедшее до предела всякого счастья, в конце концов утекло в полное небытие, как будто никогда и не начиналось. Однако благодаря их проснувшейся вере в Бога появилось другое и, кажется, гораздо более прекрасное, и именно этому мы можем больше восхищаться и благоразумно ценить его больше. Будь же здоров.
Письмо Димитрию Хрисолоре. Patrologiae cursus completus / Ed. J.-P. Migne. Series Graeca, vol. xlvi. Paris, 1866. Cols. 57–60 (c. 81–82)
IX. Амброджо Траверсари
Veni Ravennam VII. Decembris, neque prius institutum opus peragere volui, quam templa vetustissima, et digna profecto miraculo cernerem, praecipueque maiorem Ecclesiam, ubi librorum aliquid delitescere, te quoque admonente, putabam. Ingressus Bibliothecam, dum singula studiosius explico, vix dignum te quidquam inveni. Solum Cypriani volumen antiquum reperi, in quo plures longe epistolas, quam unquam viderim, notavi. Eas iam tunc transcribendas curare animus fuit. Studiose percontanti, an quidquam praeterea librorum lateret in scriniis, sive aliud antiquitatis monumentum, responsum a Custodibus est complura illic esse privilegia papyro exarata, atque inter cetera Caroli Magni unum cum aurea Bulla; locum quoque inesse, cui Carthulegio vocabulum est. Ea ego omnia dum mihi ostendi avide expeterem, intempestivum esse renuntiatum est. Magnum tamen, ac pervetustum codicem de Conciliis in conspectum dederunt, in quo Nicaeni Concilii fidem in membranis purpureis et aureis literis scriptam legi. Discessi tunc, inspecto prius templo dignissimo altarique argenteo, columnis argenteis quinque subfulto, cum ipso quoque ciborio argenteo; neque hac magnificentia contenta prominentia quoque circum altare capitella marmorea, quae ad ornatum templi sunt. Argento vestivit antiquitas, maximaque ex parte durant.