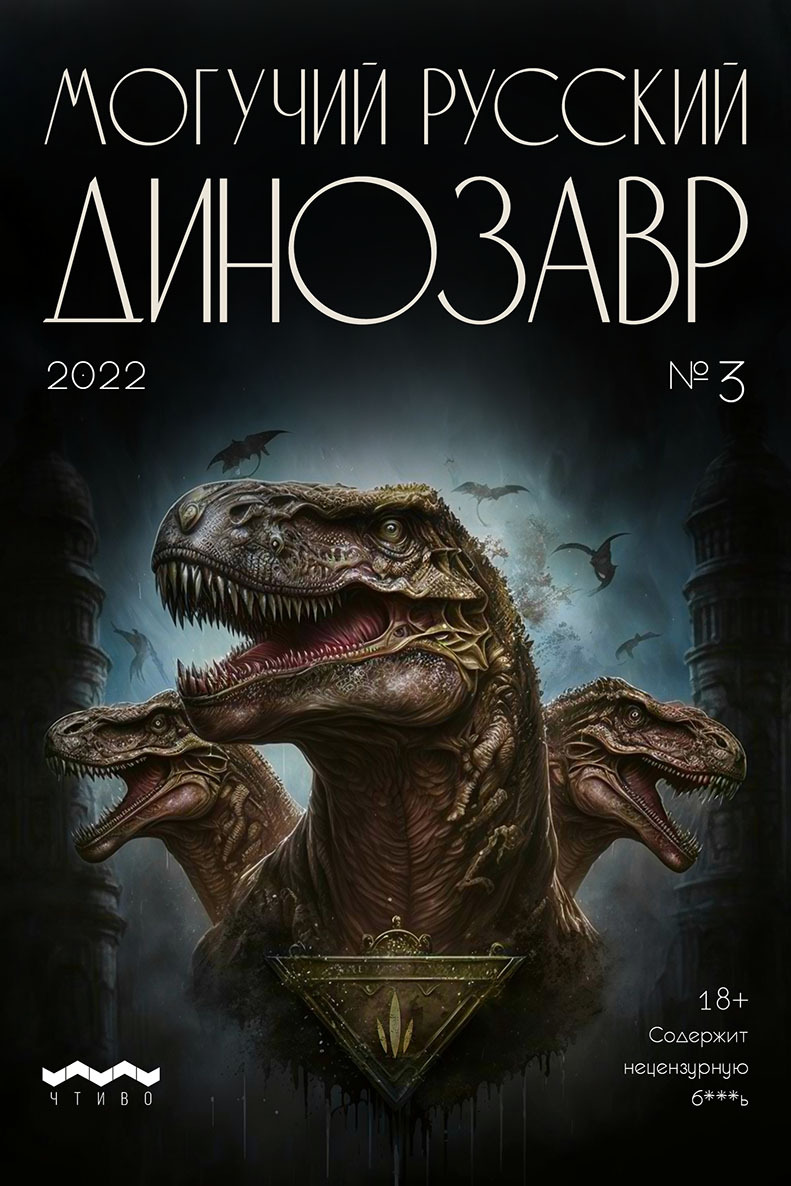Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 132
внимания[457]. Однако Пигафетта заслуживает похвалы по меньшей мере за столь же важное замечание о каннибализме тупи: «Они едят мясо своих врагов, и не потому, что оно было вкусное, а таков уж установившийся обычай»[458]. Продолжая, он приводит две причины этого: месть, что он иллюстрирует историей пожилой женщины, которая, увидев одного из убийц своего единственного сына, «вспомнив сына… накинулась на него, как разъяренная сука, и укусила его в плечо»; а также память – «чтобы помнить о своих врагах»[459].
Похоже, что Пигафетта осознал факт, который долго ускользал от внимания многих исследователей каннибализма: как правило, в нормальных условиях каннибализм – это не способ насыщения или тем более смакования пищи, но моральное деяние, порой имеющее целью уважительное захоронение мертвого тела, а в других случаях выражающее моральные чувства – любовь, месть или благочестие, – или же служащее для присвоения опять-таки моральных качеств жертвы. Практически всегда каннибализм служит для самопреобразования и ритуализации взаимоотношений едока и едомого. Именно так он работает у племени гими в Папуа – Новой Гвинее или у уари в Амазонии, где женщины из уважения едят своих мужчин, или у новогвинейских хуа, которые поедают тела, чтобы сохранить ну – жизненную жидкость, которая, по их мнению, не возобновляется в природе. Среди ацтеков поедание отдельных кусочков тела военнопленного должно было способствовать обретению его мужества. На Фиджи человеческое мясо было пищей богов, которое поедалось «по мифическому общественному договору»[460]. Конечно, есть случаи, когда в игру вступают другие мотивы – например, выживание, как в «морских обычаях», в случаях массового голода или иррациональной ярости, как в печально известной истории жителей французского Отфая, которые съели хорошо известного, пользовавшегося общим уважением местного дворянина, заподозрив в нем прусского шпиона; или же при самых омерзительных проявлениях психопатологии, как у Джеффри Дамера из Милуоки, чей холодильник в 1991 году оказался полон частей человеческих тел[461].
Последним вкладом Пигафетты в этнографию тупи стал лингвистический. Этнография эпохи ренессансного гуманизма всегда была охоча до списков слов на экзотических языках как пособия по сравнительной филологии, а главным образом при поиске праязыка всего человечества, которым ученые занимались в первую очередь с XIV по XVII век. Как мы увидим в последующих главах, Пигафетта прилежно собирал лексическую информацию. Однако у тупи, вероятно из-за слишком краткого пребывания флотилии в Бразилии, он записал не так много. Слова, которые он приводит для ножа – tacse – и для ножниц – pirame, – действительно выглядят словами из языка тупи и напоминают те, что записал в свой словарь французский купец Жан Лами, побывавший на том же побережье в 1540-х годах[462]. Этими товарами бразильский рынок наполнялся десятилетиями[463]. С другой стороны, слово maiz, которое также содержится в перечне Пигафетты, или что-то подобное никак не может быть исконным словом из языка тупи. Оно происходит от слова или словосочетания из аравакских языков, было впервые записано Колумбом и подверглось латинизации Педро Мартиром в виде maizium – только тогда Пигафетта впервые его использовал. Если только тупи не переняли это слово у самих араваков или европейских купцов и путешественников, Пигафетта явно почерпнул его наряду с другими словами карибского происхождения из каких-то книжных источников и ошибочно приписал бразильским племенам. Местные слова для обозначения домов, гамаков, каноэ и вождей отсутствуют в его перечне, но содержатся в его описаниях жителей Бразилии; при этом все они имеют аравакское происхождение и присутствуют в трудах Колумба и Педро Мартира[464].
Корабли провели в устье реки Рио-де-Жанейро две недели, воспользовавшись случаем пополнить свой запас продуктов свежей пищей. Теперь они находились на том берегу, где в ходе предыдущих экспедиций вполне можно было просмотреть пролив. И по журналам штурманов видно, что теперь флотилия продвигалась медленно и осторожно, проверяя каждый залив. Они покинули Паранагуа в последний день 1519 года и, попав на встречное Фолклендское течение, которое еще более замедляло их ход, 10 января 1520 года наткнулись на эстуарий с «холмом в форме шляпы»[465]. Внезапная буря ненадолго скрыла от них землю. Когда горизонт расчистился, Карвалью увидел береговую линию, которую опознал как место, где тремя годами ранее встретил свою смерть Хуан Диас де Солис. Они находились на границе мира, который некоторые из них знали лично или по достоверным отчетам. Португальцы называли этот мыс Кабо-де-Санта-Мария и знали его как последнюю точку, которой достигали в своих плаваниях[466].
Пресная вода, которую набрали в устье Ла-Платы, вероятно, убедила Магеллана в бессмысленности дальнейшего исследования эстуария. Мелководье тоже не обещало ничего хорошего. Впрочем, теоретически могло быть так, что река или реки, приносившие в море пресную воду, могли впадать в пролив, так что выход в открытое море к западу оказался бы возможным. Обширность устья – 220 километров в ширину – подпитывала эту иллюзию. Пигафетта действительно, судя по всему, полагал, что пролив здесь будет вот-вот найден, – по меньшей мере до изысканий, предпринятых Магелланом: «Одно время полагали, что отсюда можно выйти в Южное, то есть Полуденное море»[467]. Начались исследования территории. 12 января Магеллан отправил на рекогносцировку «Сантьяго». Пока корабли запасались древесиной и водой – с осторожностью, помня о том, что погубило Солиса, – шлюпки пытались пройти заливы на другой стороне эстуария. Хуан Серрано провел свое судно довольно далеко вверх по реке, пока не начались отмели; постоянное мелководье доказывало, что никакого пролива там нет. Меж тем знамения становились все более дурными. Один юнга 25 января упал за борт и утонул. Через несколько дней случилась драка, в которой погиб матрос[468]. Флотилия вновь отправилась в путь 3 февраля.
С этого момента на юг пробиваться пришлось медленно. Течение, которое несло корабли вдоль побережья Бразилии, теперь обратилось против них. Участились бури. Например, 12 и 24 февраля яростные ветры выносили флотилию в открытое море на три дня. Затем корабли рассеяло штормом. Наступили холода. 27 февраля посланную на берег какого-то островка за водой партию отрезало от экспедиции бурей. Последовали еще шесть дней яростных штормов, и флотилия снова потеряла из виду землю и чудом не села на мель, пока на выручку, по словам Пигафетты, не явились святой Эльм, святой Николай и святая Клара – специалисты именно по помощи морякам, после чего волны угомонились[469]. Франсиско Паскасио Морено плавал вдоль этого побережья уже в 1876 году во время исследования реки Санта-Крус и признавался, что здешние широты внушали ему ужас: стонущие мачты, доходящие до самого вороньего гнезда волны, чувство опасности от невозможности держаться ближе к берегу в бурном море[470].
Даже если бы погода была более благоприятной, Магеллану все
Ознакомительная версия. Доступно 27 страниц из 132