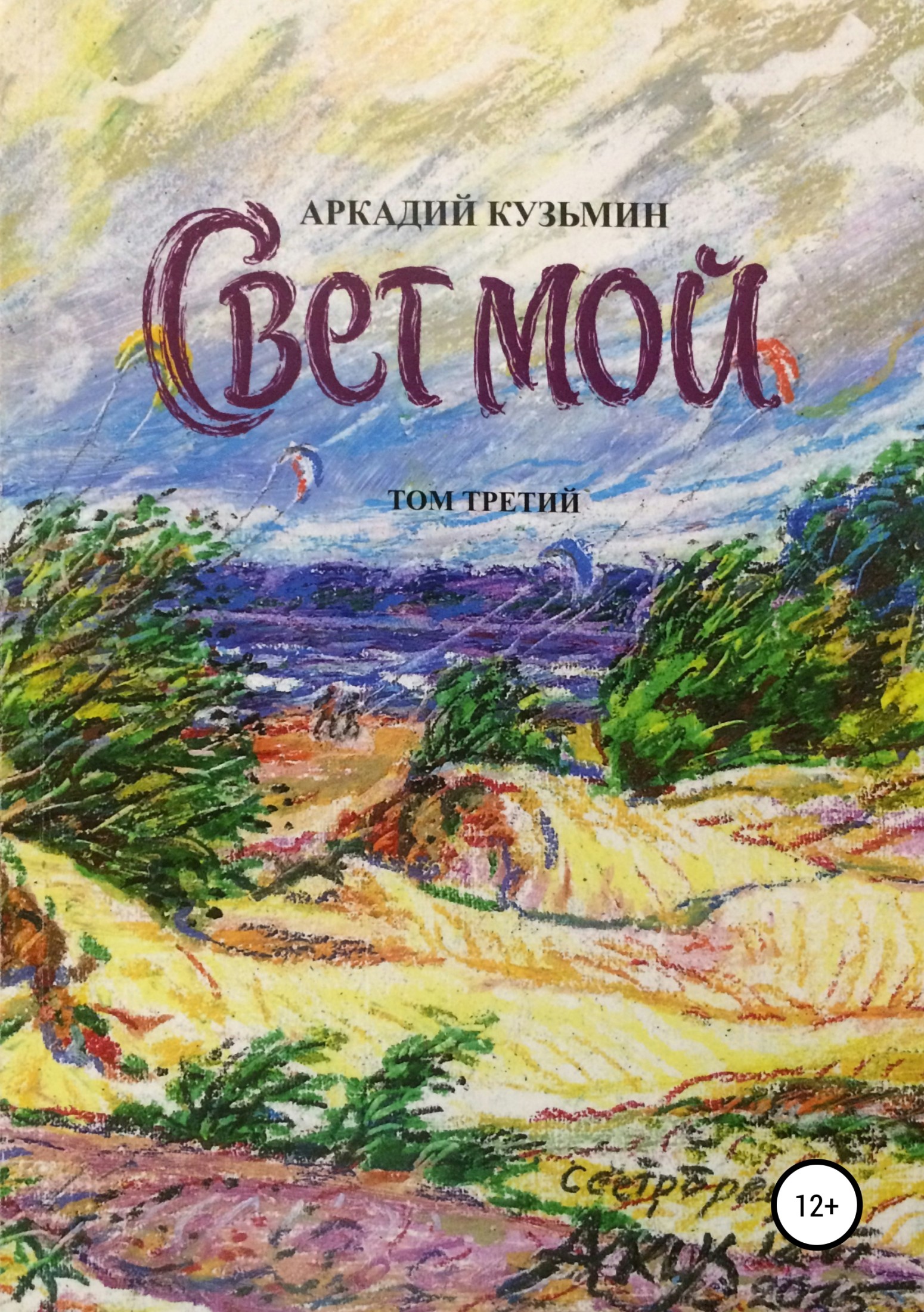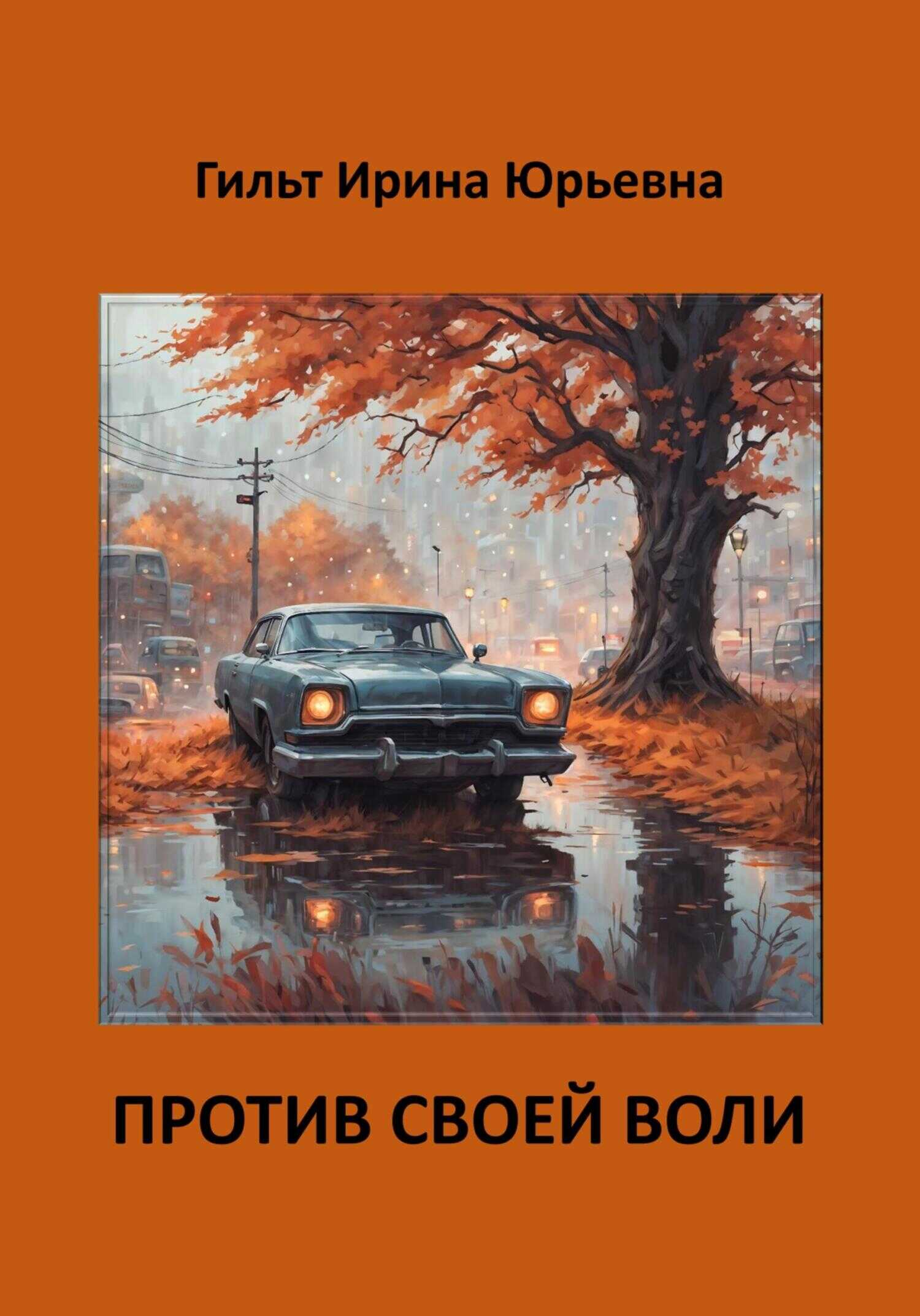будет, с чего начинать. Будем сами мы – и будем тогда все. Своя волюшка – раздольюшко».
И всю эту ночь то тарахтели моторы машин, то бабахало где-то, то урывками мятуще посвечивали, верно, фары, то шипящие яркие ракеты в чернильном небе вспыхивали, описывая дуги, и в глазах Анны чередовалось что-то светлое и черное. Прыгали эти полосы, сменяя одна другую.
IV
Опасения относительно дальнейшей задержки здесь оправдывались: с утра по деревне откатывались немецкие части, и к соседней избе, в которой, похоже, располагалась немецкая комендатура, еще подкатил крытый грузовик и несколько немцев грузили в кузов, вынося из нее, какие-то ящики, коробки. Так что, несмотря на то, что выселенцы изготовились пораньше двинуться домой, попив водички с сухарями, нечего было и думать выйти из избы: можно было влопаться и пропасть напрасно. К тому же Сашу донимала боль в животе – ему надлежало отлежаться, может, с теплой грелкой: нужно было бы нагреть водички и налить в бутылку… И прогреть живот, бока…
Однако теперь отчетливей для всех обозначились и беспокойства, вызываемые тем, что сидели взаперти, хоть и тихо-затаенно, в самом, считай, пекле, или гуще, врагов. А что, если кто из них войдет зачем-нибудь сюда, в избу? Может же такое быть.
Для того загодя открыли люк, ведущий в подпол, – для того, чтобы молодые девки (если что) могли по-быстрому попрыгать в подпол и закрыться крышкой своевременно; над этим они даже несколько потренировались, отчего заулыбалась кроткая Клава с выразительными овечьими глазами, а Наташа сняла толстый платок и встряхнула головой, чтобы распустились посвободней волосы. На эту выдумку надеялись, хоть чуть.
Аккуратно растопили снова печку, чтобы сготовить кой-какое варево и кипятку. И уже Анна вдвоем с Авдотьей опять лепясь по стенкам изб, принесли воды с колодца. Из похода этого они заключили, что отходящие солдаты, очень заняты отступлением, мало обращали на них внимание, либо мало потому, что то были не патрульные солдаты, только потому.
Был уж полдень, все благополучно. В том смысле, что схоронившихся сельчан в избе не тревожили. И Большая Марья, сидя на табуретке, заведено-громко рассказывала что-то; Анна, взглядывая за окна, ее поправляла и просила говорить потише, но та, понизив голос, тотчас его повышала бесконтрольно, чем ребята забавлялись.
– Но, видишь ли… – лишь начала Анна в ответ, глядя в окно, как тут же тревожно замолчала: на улице вновь показались немцы. Что-то будет? Один из солдат торнулся в дверь крыльца, потом отошел в раздумье на два шага, скользнул по окнам взглядом.
– Девки, прячьтесь! Ну! Скорей!
Одна за другой Наташа, Ира, Ксения, Тамара и Клава нырнули в подпол и закрылись там. Все затихли напряженно; слышалось лишь тиканье запущенных ходиков, отстукивавших время без хозяев.
– Может, открыть лучше? – Антон обвел всех глазами. – Я схожу.
– Стой! Может, он уйдет, сынок… О, господи! Пронеси его… Молю…
Но тут солдат дважды ударом приклада сотряс крыльцо, а потом еще. Звякнула щеколда, дверь распахнулась, бухнувшись. Загромыхали сапоги по половицам. Взошли на порог грузновато.
Все в избе застыли.
– О! – с удивлением издал серый, точно выдравшийся весь из пепла и свинца, громовержец, только вперся на затоптанный порог. Во всем своем солдатском облачении.
Он не ожидал, наверное, увидеть полный дом жильцов. Дом, который был заперт и в который он вломился запросто. Это было для него диковинно.
И, входя, с надменностью туда-сюда зашарил истуканьим своим взглядом; и, промаршировав затем на кухню, заглянул бесцеремонно в чугунки, на полки и под лавку и понюхал еще воздух по-собачьи – выяснял, должно быть, что там лежит плохо, что прибрать-то к рукам можно; и, разочарованный, подавил в себе холодную усмешку образованно догадливого человека: Анна даже руки распростерла – загораживала от него ли, от его худого ли глаза детушек, которые елозя по полу, играли в куклы самодельные, тряпичные и, играя, разговаривая с ними, на манер больших, тоже бережно и ласково всячески остерегали их от чужих солдат и самолетов. Вот такое было у них детство незавидное. Загнанное, беззащитно-ломкое.
Антон, что колол топором полено – на лучину для растопки печки, бросил сипло:
– Что камраду надо?
Вырвалось невольно у него. Немец развернулся и по-русски отчеканил сразу:
– А что нужно мне, то я и возьму. – И нелюбезно ткнул сидевшего на корточках Антона автоматом в грудь: – Ты кто тут есть? Может, партизан? Признавайся! Партизан?
Братья Кашины уж немало попадали в переплет.
– Партизан!? Какой я партизан!? Разве же не видно? – И Антон продолжал колоть лучину.
– Я не вижу, – громовержец напирал.
– Мое! Мое! – Анна, кинувшись к сыну на выручку и закрывая собой его, прижимала руки к сердцу, чтоб понятнее извергу было. – У меня, у матери, есть дети маленькие, не разбойники; и у вас, наверное, есть тоже маленькие дети, да? Вы-то их жалеете, камрад?
– О, да! – сказал вломившийся. – Ja. Ja. Жаль… – недобро ухмыльнулся.
С громыханием укатился снова, даже не прикрыв за собою дверь.
– Этя ктё? Этя ктё? – прижимаясь к плечу Большой Марьи, как в горячке, спрашивал у ней Кирилл.
– Спи, спи, солнышко мое, – убаюкивала мать его. – Дяденька пришел и уже ушел. Спи спокойно, не пугайся, грибок мой.
– Мамуленька, а немец нас опять не забелеет? – спрашивала Танечка.
– Не приведи бог, ангел, что ты! – ужаснулась, вздрагивая, Анна. – Фу! Это… с ума сойдешь… Партизан!
Анна, все еще как-то сжавшись вся, точно ожидая постоянно нависшего удара, готового всегда сорваться, беспокойно ерзала по избе и заглядывала на улицу в окна: она совсем еще не отошла от захолонувшего в сердце ужаса при виде вломившегося сюда живодера, стоявшего в ее глазах, да при одной только мысли о том, что могло здесь произойти сейчас, вот только что.
– Там, Антон, надо бы опять дверь закрыть покрепче – на пробой или подпереть… Коли снова торгнутся, задребезжит – хоть услышим это, так оповестимся загодя… Девки, вылезайте из подпола!..
Как же дешево, не ставя ни во что, ценят эти ироды вооруженные любую человеческую жизнь: можно ею поплатиться за один лишь взгляд или слово, брошенное необдуманно, или даже просто так – из-за прихоти такой, блажи дикой, необузданной. До чего ж нелегко было ей, маломощной матери, и чего ж ей только стоило сначала выносить в животе своем, а потом вскормить, поднять и его, Антона и как, оказывается, непростительно легко и быстро она могла его потерять, лишиться, разуму вопреки: дело-то всего минутное или даже проще. Это не укладывалось в голове ее, сознание протестовало.
Анне вспомнилось: принесли его из роддома, а он отчего-то грудь