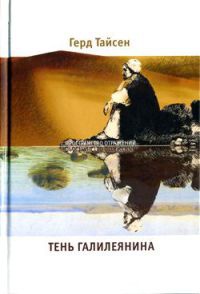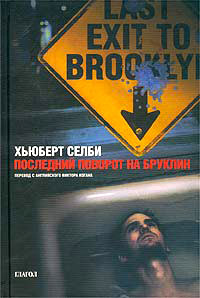Мне очень не хотелось оставлять Артура с ней наедине. Если она была так откровенна со мной, то что наговорит ему?
— Вы ведь не расскажете ему, да? — попросила я.
— О чем? — резко спросила Леда Спротт.
Оказалось, что мне очень трудно облечь это в слова.
— Какой я была раньше, — выдавила я наконец. Подразумевая: «какой толстой».
— Что ты имеешь в виду? — не поняла Леда. — Насколько я пом ню, ты была очень хорошей и милой девушкой.
— Нет, я про свои… формы. Я ведь, помните, была очень… — Выдавить из себя слово «жирная» не удалось; такое я могла сказать только мысленно.
Леда поняла, о чем речь, но это ее лишь позабавило.
— И это все? — удивилась она. — По-моему, твои формы были самые что ни на есть подходящие. Впрочем, не бойся, я не выдам твоего прошлого. Хотя, должна сказать, в жизни случаются трагедии и пострашнее лишнего веса. Надеюсь, ты меня тоже не выдашь. Леда Спротт задолжала кое-что тут и там. — Она хрипло засмеялась, потом закашлялась. Я вышла и позвала Артура.
Через пять минут он уже выскочил из кухни. Мы направились к выходу. Миссис Симонс семенила за нами — через холл, по крыльцу, по дорожке, — пригоршнями разбрасывая рис и конфетти и весело чирикая.
— Счастья вам, — пропела она нам вслед, размахивая ручкой, затянутой в розовую перчатку.
Нагруженные коробками, мы дошли до автобусной остановки. Артур хмуро молчал, стиснув челюсти.
— Что с тобой? — испуганно спросила я. Неужели ему все-таки рассказали про меня?
— Старая мымра вытянула из меня пятьдесят баксов, — ответил он. — А по телефону говорила, пятнадцать.
Вернувшись ко мне, мы открыли подарки. Это оказались пластмассовые ваза и чашки для пунша, книга о здоровом питании за девяносто восемь центов, фото Леды и Маккензи Кинга в рамке, плюс бесплатные государственные брошюры о питательных свойствах продуктов и правильном использовании дрожжей.
— Неплохо старуха наживается, — пробурчал Артур.
Наверняка придется жениться заново в мэрии, подумала я. Церемония с чучелом совы и скамеечкой для ног никак не может быть законной.
— Как ты думаешь, мы по-по-настоявшемуженаты? — спросила я Артура.
— Сомневаюсь, — отозвался Артур. Но, как ни странно, все было по-настоящему.
20
Наш медовый месяц состоялся четырьмя годами позже, в 1968-м. Артур, на том этапе — в сепаратистской ипостаси, настоял на поездке в Квебек-сити, где он терроризировал официантов разговорами на «жуаль». Те в большинстве своем принимали это за оскорбление, а истинные сепаратисты потешались над его произношением, слишком, по их мнению, парижским. Первую ночь мы провели в дешевом мотеле, следя за похоронами Роберта Кеннеди по ушастому, как заяц, телевизору. Телевизор работал, только если держаться одной рукой за ухо антенны, а второй — за стену. Я держалась, Артур смотрел. К тому времени я чувствовала себя глубоко замужней женщиной.
Это пришло не сразу. Вначале наше совместное существование отличалось крайней нестабильностью. У нас не было денег — кроме тех, что я зарабатывала «Костюмированной готикой» и выдавала за случайные приработки; мы долго снимали комнатки, а позже — крохотные, безвкусно меблированные квартирки. Изредка в моем распоряжении оказывалась кухня-альков за бамбуковой занавеской или пластиковой дверью-гармошкой, но гораздо чаще — всего лишь плитка с одной конфоркой. Я готовила овощи, которые варятся в пакетике, либо открывала консервированные равиоли. Мы съедали это, сидя на краю кровати и стараясь еще больше не закапать томатным соусом простыни. Потом я соскребала остатки еды с тарелок в унитаз общего туалета и споласкивала посуду в нашей ванной — в таких домах, как правило, не бывает раковин. Поэтому, когда мы вместе принимали ванну — я намыливала Артуру спину; его ребра торчали, как у Смерти на средневековых ксилографиях, — то нередко с удивлением видели, как из мыльной пены невесть откуда взявшейся частичкой Саргассова моря выплывает лапшинка или горошинка. В наших сугубо арктических ванных это казалось желанным приветом из тропиков, но страшно коробило Артура. Хоть он и не признавался, но у него был пунктик относительно микробов.
Я часто сетовала на то, как неудобно жить на чемоданах, и через два года, когда Артур нашел место ассистента преподавателя на кафедре политологии и стал получать какую-никакую зарплату, он сдался — и мы сняли настоящую квартиру. Можно сказать, в трущобах — это сейчас их перекрасили в модный белый цвет и повесили вагонные фонари, — но зато настоящая кухня, пусть и с тараканами. Там-то мне, к полному моему ужасу, и стало понятно, что теперь Артур ждет настоящих обедов, приготовленных как положено, из натуральных продуктов — муки, сала. А я в жизни своей не стояла у плиты. Готовила мать, а я ела — таково было распределение ролей; она даже не пускала меня на кухню — боялась, как бы я чего не разбила, не запустила грязные, микробные пальцы в соус, не свалила торт своим слоновьим топотом. Домоводство в старших классах я тоже не посещала — ходила вместо него на делопроизводство. Отвращала меня, кстати, не кулинария — где, по рассказам девочек, изучали главным образом правильное питание, — а шитье. Могла ли я корпеть над гигантским тентом для себя в непосредственной близости от изящных юбочек и кружевных блузок одноклассниц?
Конечно, ради Артура я была готова на все, но готовить оказалось совсем не так просто. У меня вечно в самый неподходящий момент заканчивались жизненно важные продукты, вроде масла или соли, за которыми приходилось нестись в магазин на углу, и постоянно не хватало чистых тарелок — я ненавидела их мыть. Но Артур не любил есть в кафе и почему-то предпочитал мои несъедобные изыски: швейцарское фондю, из-за слишком сильного огня разделившееся на лимфу и шарики жевательной резинки; яйца-пашот, распавшиеся на слизистые волокна; жареную курицу с кровоточащим при разрезании нутром; хлеб, отказавшийся подниматься и лежавший в хлебнице горкой зыбучего песка; дряблые блинчики с жидкой сердцевиной; резиновые пирожки. Однако я редко плакала над своими неудачами, ибо для меня это были успехи, тайная победа над идеей еды как таковой, доказательство моего к ней равнодушия.
Иногда я почему-то забывала о готовке, и мы оставались без ужина. Случайно оказавшись на кухне Уже за полночь, я видела Артура, который намазывал хлеб арахисовым маслом, и начинала мучиться совестью: бедный, я морю его голодом. Да, он неизменно критиковал мою стряпню, однако исправно ел и обижался, если еды вдруг не оказывалось. Непредсказуемость не давала ему заскучать; это было как мутация или рулетка. Но это же успокаивало. Мир представлялся Артуру чередой мимолетных горестей, проплывающих на фоне общей вселенской трагедии, и моя готовка только дополняла картину. Но для меня эти горы теста, эти бесформенные, пригоревшие по краям уроды, эта непропеченная кровь были чем-то принципиально иным. Каждое блюдо являло собой кризис, но такой, из которого вполне можно извлечь нечто позитивное — стоит только захотеть и приложить чуточку усилий: добавить перца… или ванили… В глубине души я оставалась оптимисткой и по-детски верила в неизбежность счастливого конца.