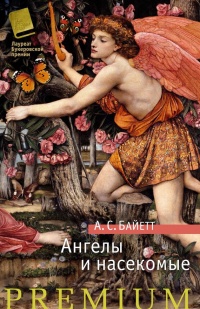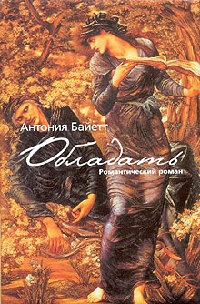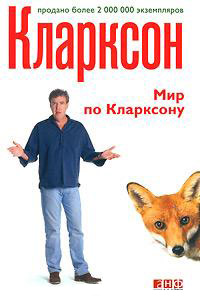Книга Призраки и художники - Антония Байетт
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Наверно, никого смелее вас я в жизни не встречал, — сказал Барри, наклонив голову набок и подергиваясь, как вдохновенный гитарист на сцене.
Мисс Тиллотсон ничего не ответила, лишь попросила у гостей чашки и унесла поднос. Можно было слышать ее шаги в прихожей, уверенные шаги по кухонному линолеуму, сопение крана и звук льющейся воды.
Барри подался вперед и заговорил с миссис Сагден:
— А что вот, если переставить тут что-нибудь — стулья там, столы, чайник на кухне, а? Или коробки с печеньем. Она запутается, спорим? Вообще все перепутает.
— Никто так делать не будет.
— Да запросто, если, например, случайно. Легко. Вот подвиньте тот столик с телефоном для интереса.
Сразу несколько слов промелькнули в голове у миссис Сагден: «жестоко», «подло», «гадость», «идиотизм»… Но сказала она просто и по-учительски:
— Не надо такими глупостями заниматься.
— Да я и не собирался. Она классная. Я так, просто подумал.
Он взглянул на миссис Сагден:
— Вот на чай меня пригласила. Она добрая. Вы-то не пригласили бы.
Она не ответила. Тяжело билось сердце.
— Вы бы побоялись. Что ж, разумно. Вдруг я какой-нибудь маньяк, никто ж не знает. И ей откуда знать. Надо быть осторожной, как же.
И для большей убедительности он протянул руку Вольфгангу. Тот понюхал пальцы, дал почесать себя за ушком.
* * *
В этот момент миссис Сагден твердо решила, что уйти от мисс Тиллотсон, не забрав этого человека, нельзя. А это значит, что ей придется какое-то время оставаться с ним один на один. Получалось что-то вроде головоломки про лодочника с капустой, козой и волком. Она поднялась со стула и решительно объявила:
— Мисс Тиллотсон, мне, пожалуй, пора, Барри, наверно, тоже. Спасибо за гостеприимство. Мы пойдем. Да и у вас, видимо, есть дела.
Можно подумать, у нее самой были какие-то дела. Или у бездельника Барри. Или, в конце концов, у хозяйки. Мисс Тиллотсон тоже встала попрощаться с изяществом и некоторой отчужденностью:
— Очень рада, что вы зашли. Приходите еще. Пальто найдете?
Барри, развалясь как у себя дома, продолжал сидеть в бархатном кресле, у его ног на красивом домашнем ковре виднелась собачья шерсть и валялись крошки. В голосе миссис Сагден зазвучала учительская нота:
— Пойдемте, Барри, пора по домам.
Он в этот момент играл с пресс-папье: хлоп, шлеп — перекладывал он его из руки в руку. Хорошо, что хозяйка не видит, думала миссис Сагден. Она чуть не сказала: «Положи сейчас же туда, откуда взял». А он будто прочитал эту мысль, потому что действительно положил. Ухмыльнувшись, с ленивым усилием поднялся на ноги.
— Хорошо, хорошо, иду я, — ответил он, словно школьник, подыгрывая ей.
Мисс Тиллотсон повторила, что будет рада увидеть их снова. Миссис Сагден сделала ответное приглашение, хотя от волнения у нее во рту пересохло.
— Спасибо огромное, я так удачно зашел, — попрощался Барри.
А что мисс Тиллотсон думала, что понимала и чего не понимала, миссис Сагден сейчас знать не могла.
* * *
На улице она взяла Вольфганга на поводок и повернулась к Барри. Как теперь действовать, она продумала заранее. Она спросит, куда он направится, а сама пойдет совсем в другую сторону, даже если придется сделать большой крюк.
— Вам куда, Барри?
— Я вон там живу. Уэстфилд-парк, в общем.
— А нам с Вольфгангом вон туда. Мы пойдем.
— Да-да, счастливо, идите. Рад знакомству. Люблю поболтать со старушками. С ними интересно.
Он стоял, нескладный, держа руки в карманах. В одном из них явно что-то было. Вдруг он вынул руки, в одной — огромный охотничий нож. С улыбкой он принялся перекидывать его из ладони в ладонь, как пресс-папье у мисс Тиллотсон.
— До свидания, — негромко и хрипло выговорила миссис Сагден, глядя на изгиб лезвия. Она еле держалась на ногах.
— Ну до свидания, еще увидимся. Я тут много гуляю, брожу туда-сюда. Уж вас-то точно найду.
Миссис Сагден повернулась, бессильно увлекая за собой Вольфганга. Барри стоял на тротуаре и с улыбкой поигрывал, посверкивал ножом.
— До скорого, — сказал он им вслед, и миссис Сагден прибавила шаг, — до скорого.
Женщина сидит и смотрит в широкое окно. Внизу — канал с его вонью, а если поднять взгляд, то над силуэтами домов громоздятся серо-стальные тучи и висит в прогале туч заходящее солнце. На вязкой поверхности канала извиваются длинные темно-зеленые косы водорослей; чиркают о воду резвые чайки, обретшие здесь приют от штормов Адриатики. Это приятно полноватая женщина в нарядном шелковом капоте, на шее — нитка жемчуга, на голове — изящный кружевной чепец. О ней известно многое с высокой вероятностью. У нее тонкие, чуть расплывшиеся черты лица; маленький поджатый рот с опущенными уголками, изящный нос, двойной подбородочек; в глазах застыла печаль, во всем облике неуловимое разочарование. Все это мы знаем из портретов, их несколько, более или менее достоверных. Послеполуденные часы она провела в постели; здоровье ее слабое, но она мчится очертя голову на веселые званые обеды, пикники, прочие занимательные сборища. Теперь же она посиживает у окна, или предположим, что посиживает, любым осенним днем, в любой из тех нескольких лет последней четверти прошлого века… Ей несут преданную службу три гондольера, домашний мастеровой, повар, горничная и судомойка; есть и собственная экономка. Еще она имеет дочь, молодую, на выданье, и мужа, который загадочно болен и проживает в Париже, она не в разводе с ним, лишь в разъезде. Дочери сейчас нет дома, — возможно, дочь отправилась к друзьям на веселый ужин, и мать с порога просила вернуться и вручила свой новый зонт с рукоятью в резных изображениях бабочек и сверчков. Глаз и сердце этой дамы лежат к хрупким, искусно исполненным изделиям, неспроста же говорили про нее, что она, пожалуй, променяет полотно Тинторетто на поставец с крошечными позолоченными бокальчиками. Она знает толк в моде: в этом сезоне украшают одежду чучелками колибри или других, более пугающих созданий — мышей, ящериц, жуков, мотыльков, — и вот она уже устраивает у себя бал, где каждый приглашенный обязан прицепить к платью вереницу птах или гирлянду бабочек на мантоньерку — «каков шик!». Комната, где она сидит, полна отделанных перламутром шкафчиков и поставцов, набитых под завязку разными затейливыми вещицами. Она — автор неопубликованной образцовой истории венецианской корабельной архитектуры. А также ряда ничем не примечательных стихотворений. Ни один из современников-сочинителей не вывел ее главным действующим лицом, зато на окраине повествования она возникает нередко, причем очерчена двумя-тремя резкими узнаваемыми штрихами. Она питает страсть к мопсам и пекинесам; и сейчас, в этот сумрачный день, у ног ее лежат в полном сборе, слегка похрапывают, как свойственно их породе: Фелиция, Тележка, Хабиб, Фисба[64] (допустим, такие у них клички). Она питает страсть к мятно-шоколадным помадкам; интересно, собачкам они тоже нравятся или собачки едят их из послушания? В одном рассказе она и обозначена этими тремя признаками — приятно полноватая, повелевает мопсами, угощает гостей мятными помадками. Генри Джеймс[65] — так принято считать — подумывал, не сделать ли ее главной героиней задуманного, но так и не воплощенного романа, — не собирался ли он пустить при этом в ход и таинственного мужа, превратив его в один из мнимо второстепенных джеймсовских образов, смутно и томительно значимых, электризующих атмосферу? Это ее личность, как полагают, Джеймс врисовал в канву «Писем Асперна», отдав ей роль вспомогательно-техническую: тип богатой американки, приятельницы рассказчика, не образ даже, скорей двигатель повествования; то, что сам писатель называл ficelle, ниточка, экономно связующая нас, читателей, с нужными людьми и бурным развитием событий. Она одолжила рассказчику свою гондолу. Она дама с большой душой. Будучи горячей поклонницей поэтического величия, она коллекционирует пряди волос, срезанные с виска знаменитых поэтов, и хранит затем благоговейно внутри медальонов из оникса. Она ожидает Роберта Браунинга. Привечать Браунинга в Венеции — такая у нее прекрасная забота вот уж несколько лет и в ближайшие годы. Это ее стараниями поставляются поэту лучшие постельные принадлежности, достаются отличные ванные, туалетные комнаты. Она, правда, пеняет ему на то, что слуги при нем не знают своего места и знать не собираются. Она посылает ему стопки отменной веницейской бумаги ручного изготовления (эти листки раздает он знакомцам — художникам и поэтам). Она выбирает для него серебряные подносики, на которые лягут визитные карточки, письма. Записывает все его необдуманные и обдуманные речения о пейзаже, атмосфере Венеции. Она смотрит теперь на чаек с интересом, который он в ней пробудил. «Не знаю, отчего в описаньях этого города не встретишь упоминания чаек; для меня они даже интереснее, чем голуби на площади Святого Марка». Так он сказал, и она записала его слова. А еще записала, что изредка он позволял ее дочери, «к вящему нашему удовольствию», угостить его чаем. «Обычно же поэт воздерживался от этого напитка, который полагал несколько варварским, по крайней мере если употреблять чай до ужина».
Внимание!
Сайт сохраняет куки вашего браузера. Вы сможете в любой момент сделать закладку и продолжить прочтение книги «Призраки и художники - Антония Байетт», после закрытия браузера.