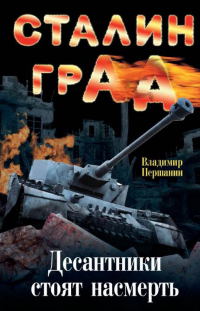— Хватает, товарищ генерал, — отрезал Харченко.
— Ты вот что, майор… ты хоть и из особого отдела, но позорить гвардейскую дивизию я не позволю. У меня тоже, знаешь, и до тебя особисты были… и не чета тебе…
— Прошу прощения, товарищ генерал, за резкость. Сорвалось… У меня этот Твердохлебов как кость в горле.
— Почему ж так? — вдруг спросил начштаба Телятников.
— А вот чую врага, а доказать не могу! — Харченко налил в стакан, выпил, пальцами взял пару ломтиков сала, кусок хлеба, принялся жевать с мрачным видом.
— А я тебе тоже начистоту — вот любого комбата у себя в дивизии снял бы, а на его место Твердохлебова поставил, — резко ответил генерал Лыков.
— Он майор, он и полк потянет, — добавил Телятников.
— Может, за мой день рождения выпьем, товарищ генерал? — несмело предложил начальник разведки Аверьянов.
— Пили уже. Ты что, Жуков? По двадцать тостов за тебя произносить надо? — насупился Лыков и позвал громко: — Анохин! Тащи аккордеон!
Из полумрака возник ординарец Анохин, вихрастый тощий паренек лет двадцати трех, с инструментом в руках.
— Давай мою… любимую… — с мрачным видом приказал генерал.
Анохин присел на табурет рядом со столом, медленно растянул меха аккордеона, пробежался пальцами по клавишам, откашлялся и медленно повел мелодию высоким чистым голосом:
По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах…
…Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на пленах, —
подхватил генерал, и следом за ним запели остальные.
Бродяга к Байкалу подходи-и-ит,
Рыбацкую лодку берет,
Унылую песню заводи-и-ит,
Про родину что-то пое-е-ет… —
пел густой хор штрафников в блиндаже.
Кто лежал, подостлав под себя шинель или телогрейку, кто сидел, обняв колени и уткнувшись в них подбородками. Мелькали в полумраке огни самокруток, сквозь сизый дым только лица белели пятнами, только остро блестели глаза.
Отец твой давно уж в могиле
Сырою землею зарыт,
А брат твой давно уж в Сибири,
Давно кандалами гремит… —
мрачно гремел хор обреченных, отверженных людей…
Светлана с Савелием сидели на заднем дворе полевого госпиталя, где были свалены бочки из-под горючего, разбитые снарядные ящики, большие баки с грязными бинтами и окровавленной одеждой. В маленьком дощатом сарайчике была прачечная. Рядом двое санитаров на козлах пилили тощие бревна, третий колол поленья на чурки и относил их внутрь сарайчика, где горела печь, — дым клубами валил из широкой трубы на крыше.
Савелий декламировал с чувством:
Перерывы солдатского боя
Переливами песен полны,
За гармоникой бредят тобою
Загорелые руки войны…
— Хватит, — остановила его Светлана.
— Что, не нравится?
— Не знаю… красиво… только на войне все не так. Почему это у войны загорелые руки?
— Это же поэзия! — расстроился Савелий. — Как ты не понимаешь?
— Загорелые руки войны… — повторила Светлана и хихикнула, прикрыв рот ладошкой.
Савелий и Светлана укрылись за пустыми бочками из-под солярки. Разговаривать приходилось под визг пилы, стук топора и громкие голоса санитаров и санитарок. Отсюда им было видно, как санитар вынимал из большого бака связки грязных бинтов с заскорузлыми пятнами крови, складывал их в тележку, потом вез в сарайчик.
— Бинты тоже стирают? — спросил Савелий, глядя на санитара.
— Не хватает, вот и стирают, потом отглаживают и скатывают, — ответила Светлана. — Сам видел, сколько раненых каждый день поступает — ужас. А наступление начнется — тогда вообще простыни на бинты резать будут… А ты говоришь… — Девушка снова хихикнула.
— Это поэт говорит.
— Болтун твой поэт. Небось войны и в глаза не видел… А может, это ты написал, Савка, а? — Девушка игриво толкнула его плечом в плечо. — А стыдно стало — ты на поэта сваливаешь?
— Я? Да ты что? Я так никогда не сумею!
— Федя, гляди, гимнастерка какая! Офицерская! Тебе в самый раз будет… — долетел до них голос санитара, который доставал из ящика окровавленную одежду:
— Ага, я возьму, а после хозяин выздоровеет и за ней придет, — отозвался другой санитар.
— Не придет, — ответил первый. — Вон две дырки — аккурат напротив сердца, заштопать — раз плюнуть… Так берешь гимнастерку, Федор?
— Дай-ка померяю… — Санитар Федор взял гимнастерку, примерил к своим плечам. — В самый раз. Ладно, заберу.
Из сарая-прачечной выглянула распаренная санитарка, закричала:
— Федор! Дрова давай! Печка гаснет! А ты чего вылупился? Давай одежу! Щас загружать будем! Сидят тут, прохлаждаются! — И дверь в сарай с грохотом захлопнулась.
Федор торопливо потащил в сарай вязанку дров, его напарник, поплевав на ладони, покатил тачку с окровавленной одеждой.
— Вот и вся война… — грустно вздохнула Светлана. — А ты — «загорелые руки…»
— Хватит тебе… — примирительно пробурчал Савелий.
— Когда тебя выписывают?
— На днях должны… — Он похлопал ладонью по ноге. — Как новенькая.
— И что, опять в штрафбат?
— Не знаю, что там в особом отделе решат…
Вечером хмурый особист листал дело Савелия.
— Цукерман?
— Так точно, гражданин майор.
— Молодой, грамотный, десятилетку кончил, в МГУ поступил… Как твой факультет называется?
— Геологический, гражданин майор.
— Добровольцем пошел, хотя броня была… Что ж с тобой делать-то, Цукерман, ума не приложу.
— А что со мной делать?
— В штрафной батальон обратно пойдешь…
— Значит, ранение в зачет не пошло?
— Пошло, пошло, но больно мало ты в штрафбате пробыл. А проступок у тебя серьезный. — Майор закурил папиросу. — Откуда у студента-добровольца такое зверство, а? Измолотить человека чуть не до полусмерти.
— Антисемита, — подал голос Савелий.
— Ты на офицера руку поднял! — повысил голос майор. — Святая святых в армии нарушил — поднял руку на старшего по званию!
— Антисемита… — упрямо повторил Савелий.
— Н-да-а, вижу, ты так ничего и не понял… — вздохнул майор. — Ладно, свободен…
Зато другим посетителем особист был доволен.
— Ну, капитан, с тебя магарыч, — Мрачный майор даже улыбался, глядя на вошедшего в комнату Вячеслава Бредунова. — Как раз пришли документы. Восстановлен в звании. Поздравляю.