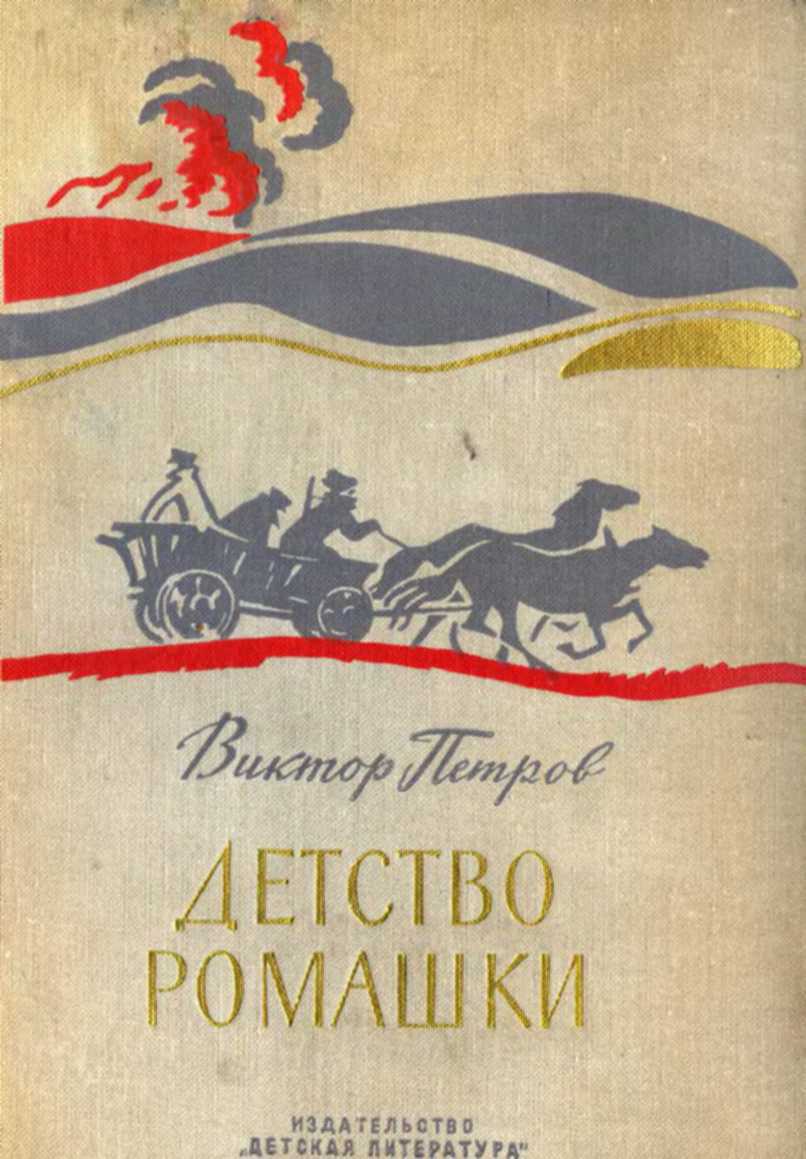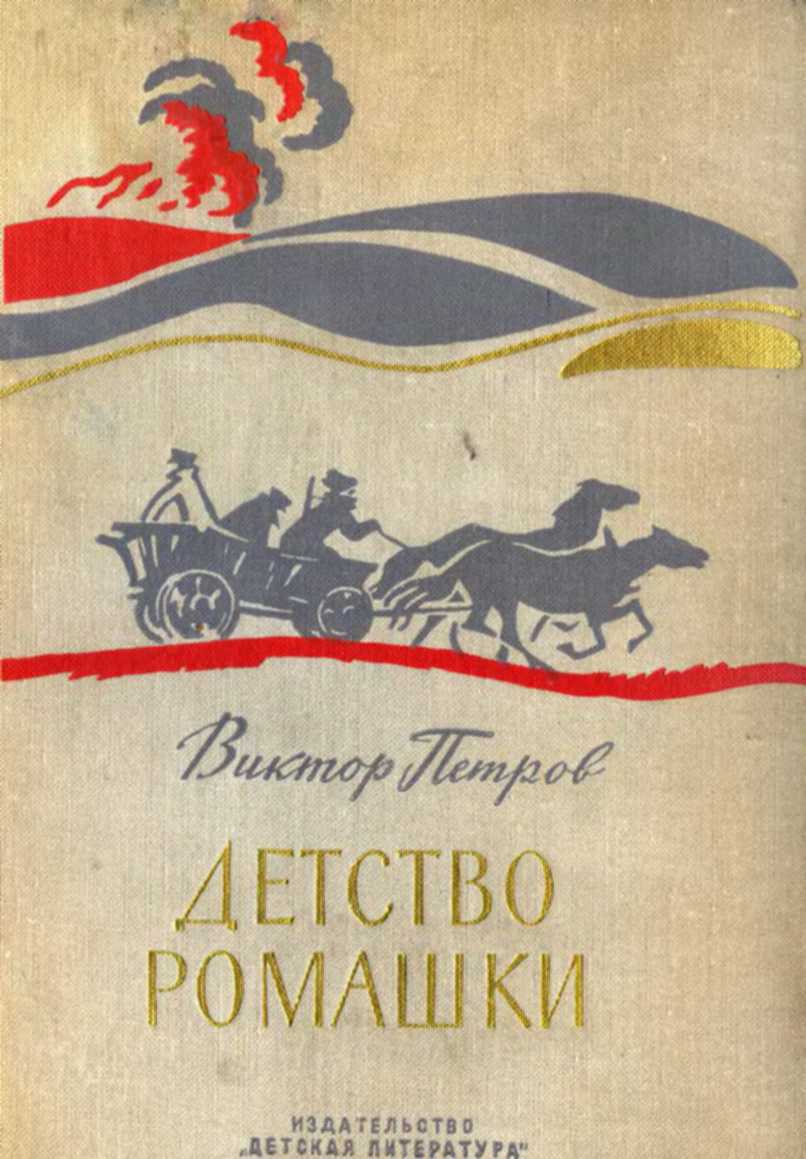печки, прочее свалили кучей в углу двора. Теперь по гульбищу, куда можно было спуститься из горниц, Михайла мог свободно пройтись и полюбоваться сверху своими новыми владениями.
Но, завернув за угол, он увидел жильцов, о которых отец не предупредил.
Там сидели на корточках двое парнишек и играли в камушки. Игра была причудливая – они перекладывали камушки с места на место по непонятным Михайле правилам. Один был лет двенадцати, другой лет десяти, и они перекликались на неведомом языке. Оба были в лисьих шапках, оба смуглые, но лица – лица не степные, не плоские, и носы также. У кого бы могли быть такие носы, у персов, что ли?
Видимо, старший обидел младшего, тот сердито закричал, и тогда на гульбище появилась женщина. Михайла не заметил, откуда она взялась, надо думать – сбежала по лестнице из горницы. Она была без шубы, в алом платье едва за колено, так что виднелись синие портки и красные сапожки. Поверх платья – узкая душегрея. На голове – необычно, не по-русски повязанный белый убрус, который придерживала меховая шапка.
Видимо, в горнице женщина ходила без убруса и без шапки. Когда она склонилась над детьми, что-то им объясняя недовольным голосом, шапка покосилась и сползла. Чтобы надеть ее заново, женщина совсем ее сняла, и тогда размотался небрежно намотанный убрус. Выпали и повисли, касаясь пола, длинные черные косы. Она выпрямилась – и Михайла увидел ее лицо.
Она была не киргиз-кайсацкого роду-племени. Лицо – тонкое, глазищи – черные, огромные, нос – также тонкий, с горбинкой, губы – дивно обрисованные и пухлые; щеки, правда, не округлые, а малость впалые, с легким румянцем. И – две родинки, одна поместилась на левой щеке, другая, слева же, почти у верхней губы. Но – ни белил, ни румян, ни иных прикрас. Когда она велела детям возвращаться в горницу, мелькнули и скрылись жемчужные зубы.
Таких женщин Михайле раньше видеть не доводилось. Он и ошалел.
Родинки! Если они и водились у московских красавиц, то их старательно замазывали белилами. А тут – на виду, как у женщины, что вышла из мыльни, завернувшись в льняную простыню, и под той простыней она обнажена.
Да еще платье и душегрея, не широкая, на русский лад, а узкая, так что очертания груди, перехвата в поясе и бедер видны и не скрываются. Грудь же пышна и перехват – узок. Ниже – вновь пышность, которую и сравнить не с чем; Михайла бывал, конечно, в постели с женщиной, но – в потемках, да и женщина не снимала длинной рубахи. Эти очертания сводили с ума…
Дети собрали свои камушки, что-то растолковывая женщине, Михайла догадался – мать. Мать таких взрослых сыновей для него – перестарок, но более красивого лица он в жизни своей не видал. И более стройного стана, и более прекрасной руки, сухой, смуглой и исполненной изящества.
Взгляды встретились.
И пропал Михайла, окаменел, застыл с приоткрытым ртом, как дурачок на церковной паперти. А женщина торопливо увела парнишек наверх.
Михайла сам не знал, долго ли глядел ей вслед. Когда опомнился – побежал отыскивать Марью.
– Да я сама не ведаю, кто такова, – сказала Марья. – Батька твой велел нос туда не совать. За ней ходит татарка, носит туда кушанье. Одно скажу: спят они и та баба, и дети на полу, хотя есть лавки. Зульфия отнесла им войлоки и перины, дала одеяла, а они на полу стелют. И никогда не выходят. Я и не знала, что на гульбище спускаются.
– А что еще батюшка сказал? – допытывался Михайла.
– Да он и сам, поди, ничего не знает, а ему так велели. Бабу эту вроде как к дому со двором в придачу дали. Сколько тут будет жить – неведомо. Два раза ей привозили короб с каким-то добром, я туда не глядела. Откуда привозили – не знаю. Наверх к ней поднимался мужик – на него глянешь и от страха всю ночь не заснешь.
– Так уж страшен? – удивился Михайла, знавший, что Марья не из пугливых.
– Глаза у него – будто две черные дыры. Взглянет – мороз по коже. А кушанье той бабе готовят вместе Зульфия и Ненила. Зульфия выучила Ненилу жарить пряженцы в бараньем жире. Вонь стоит – боже упаси! Но выходят пышны, румяны, корочка тоненькая, под корочкой – чистый пух. Мы с Ненилушкой без нее сами пробовали – так нет же, не выходят! И тесто, как она, заводим, и отдохнуть ему даем, и раскатываем той же скалкой – ан нет! Может, она сегодня затеет их стряпать. Хочешь отведать? Я попрошу – пусть поболее сделает. Они тогда вкусны, когда горячи.
– А ты скажи Нениле – пусть с ней сговорится и к столу подаст.
– Скажу. Но ты батьку не расспрашивай. Что-то он знает, а что – не скажет.
И точно – сам Деревнин о женщине с детьми ни словечком не обмолвился.
После той встречи Михайла вдруг понял, что кормиться сомнительной снедью с Торга опасно, а умнее всего – переселиться к отцу. Придется каждый день тратиться на извозчика – зато на пироги с тухлятиной уж тратиться не придется. Подьячий мысленно возблагодарил Господа – дитятко нагулялось!
Дорогой сынок же то и дело выглядывал на гульбище, а татарка Зульфия получила от него дважды по целой копейке – просто так.
Черноглазым парнишкам было скучно сидеть в горнице, они днем спускались на гульбище. Как-то Михайла подслушал их спор, явственно разобрал иные слова, и вдруг понял: да это же киргиз-кайсацкое наречие!
Начав обращать внимание на всякие странности, Михайла заметил: парнишка, бывший в услужении у отца, бегает с большой лопатой в сад – расчищать дорожку до калитки, а также выходит в калитку и раскидывает снег в переулке. То бишь отец явно ждал с той стороны гостей.
На четвертый день после своего водворения в отчий дом Михайла вздумал подняться вечером к дверям той заветной горницы и подождать – может, красавица выйдет хоть во мраке подышать свежим морозным воздухом. Но случилось неожиданное – к ней пожаловал мужчина. Этот мужчина приехал в возке к садовым воротам, и Деревнин, выглянувший на лай, сбежал в