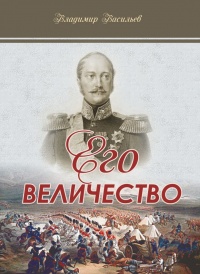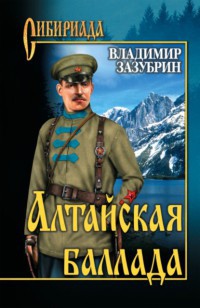ли на что-нибудь? В иных местностях России, слышно было, крестьяне верили еще в «слушный час», царскую «золотую грамоту», какую-то особую, отличную от правительственной, крестьянскую и антипомещичью линию царя, будто бы готовившегося произвести всеобщий передел земли. А здесь крестьяне ни во что такое давно не верили, не верили в самую возможность лучшего будущего. Опасное состояние духа! Но до «края» дело пока не дошло. Определяющей крестьянского отношения к жизни было выжидание. Выжидание без иллюзий, без надежд, но и без мрака отвращения от жизни. Подходящие условия для пропаганды!
И Папину и Плотникову случилось проходить селения, жители которых, подобно тому, как это было в Вожжеве, были близки к отчаянию, готовы взорваться, и оба испытали сильное искушение вмешаться в дело, подтолкнуть крестьян, и оба отказались от соблазна, решив (как и Долгушин), что прежде следовало бы сообща подумать, как действовать в таких случаях.
— Так как же действовать? — спрашивал Плотников. — Поощрять крестьян выступать решительнее, вести дело к стычке с полицией и войском, или, напротив, уводить от этого, держаться линии прокламаций?
— Мы, собственно, на это ответили тем, что теперь сошлись здесь вместе, — сказал Долгушин.
— Потому что связаны прокламациями?
— Да. Все-таки надо сперва покончить с этим делом. Раздадим все, тогда будем думать, как действовать.
— А я бы не стал ждать, — горячо вмешался в разговор Ананий и поднял над столом сжатую в кулак руку. — Попади я в такую деревню, где мужики уж закипели, не удержался бы, ей-богу, позвал бы за собой хоть помещика жечь, хоть посредника бить. Громыхнуть, как Антон Петров в Бездне, а там хоть на плаху.
— Позвал бы, если бы тебя стали слушать, — заметил Папин.
— Будут слушать! Я умею с народом разговаривать, — Ананий повернулся к Долгушину. — Александр Васильевич, не прогоняйте меня. Дозвольте с вами распространять книжки. Я разве от этого дела ушел? Я от скуки ушел. Потому дела не было.
— Где же ты шатался это время?
— Был в деревне, пока были крестьянские работы. Потом пошел в Москву места искать. Денег с собой было тридцать копеек, где только не ночевал, раз в номерах возле железной дороги, раз у девок на Щипке...
— Без девок никак не можешь? — сурово заметил Долгушин.
— Это было раз и больше не было. И не будет, Александр Васильевич, ей-богу, правду говорю, — испуганно заговорил Ананий, сильно наклоняясь в сторону Долгушина; Папин и Плотников с недоумением посмотрели на Долгушина, но тот не стал объяснять. — Ночевал по ночлежным домам, насмотрелся всякого. А места так и не нашел ни на фабриках и нигде, с себя все спустил и хотел уж в деревню вертаться, да подумал об вас, авось простите, оставите у себя. Как, значит, Александр Васильевич? Хотите, я на коленях буду просить?
Он сполз со стула и в самом деле встал на колени, переводя плутоватые темные омутные глаза с Долгушина на его друзей и обратно на Долгушина. Только теперь обратил внимание Долгушин на то, что пообтрепался-таки белокурый купидон за эти месяцы, не было уж на нем красной косоворотки, поддевка была с чужого плеча, рваная, только сапожки щегольские будто были прежние, с медными подковками.
— Ну что, простим блудного сына? — спросил Долгушин, смотря на Анания, и решил. — Ладно, черт с тобой. Живи.
— А с книжками пустите? — садясь на стул, осведомился Ананий.
— Сначала сходишь с кем-нибудь, посмотришь, как это делается. (Плотникову.) Может, сходишь завтра с ним в Грибаново? Как там Афанасьев...
— Хорошо, — согласился Плотников.
Вечером приехали Аграфена и Татьяна (Сашка́ оставили ночевать у Авдоихи) и Дмоховский, которого женщины нагнали у самого Сареева, с собою привезли приятные вести. Особенно порадовал Дмоховский, сообщив, что вчера среди дня, когда он один оставался на даче (Плотников и женщины ходили в лес за грибами), приезжал из Вожжева занятный крестьянин, спрашивал Долгушина (Прокопич, догадался Долгушин), много любопытного порассказал о том, что у них там, в Вожжеве, делается, сказал, что скоро еще приедет, нужно ему с самим Долгушиным переговорить. Хороший знак, бодро подумал Долгушин.
Максим, высадивший женщин и Дмоховского и тотчас укативший в Сареево ставить лошадь, вскоре вернулся пеший, принес Долгушину деньги, вырученные им за сено, продал его (только теперь, разговаривая с Максимом, обратил внимание Долгушин на то, что не было больше на лугу стожков), и деньги за проданный им же овес, около девяноста рублей. Обрадованный Долгушин выделил ему из этих денег два червонца, но Максим взял лишь полагавшуюся ему по уговору пятерку — плату за август, объяснив, что считает крестьянскую работу на пустоши покрытою этой платой. Ему польстило удивление Долгушина, при этом был он трезв как стеклышко, опрятен, в чистой рубахе, и Долгушин с чувством пожал ему руку.
Вечером, когда мужчины стелили себе в горнице на полу, снова заговорили о «хождении». Долгушин, вспомнив, как у него однажды проверяли паспорт, спросил друзей, были ли у кого-нибудь из них недоразумения с крестьянами, не испытал ли кто по отношению к себе враждебного или подозрительного отношения крестьян?
— Нет, — ответил Папин.
— Как будто нет, — ответил Плотников.
— Нет, — заявил было Дмоховский, но, спохватившись, поправился. — Впрочем, в одной деревне меня чуть не арестовали, как я полагаю, по доносу. И знаете, кто донес? Сейчас я вас удивлю, — заволновался он, вставая с колен (ползал по полу, расстилая одеяла, поддевки). — Забыл об этом сказать. Вчера еще хотел рассказать... Любецкий!
— Любецкий? — с изумлением переспросил Долгушин.
— Я так полагаю, другого объяснения не нахожу. Как было дело? Я возвращался домой, уже без прокламаций, все раздал, шел по тракту, меня обогнало несколько экипажей, в одном, смотрю, — Любецкий. Я ему махнул рукой, чтоб остановился, он сделал вид, что не узнал меня, проехал. Прохожу одну деревню — ничего. А в другой встречают у первой же избы староста с десятскими: «Какие книжки несешь? Показывай! Кто таков?» Я говорю, мол, инженер, выбираю место для фабрики, вот документы. «А в мешке что?» Показываю — нет никаких книжек. Ладно, говорят, ступай, а то нам приказано задержать, который с книжками. Кто приказал? Не твое, говорят, дело, ступай.
— Почему ты думаешь,