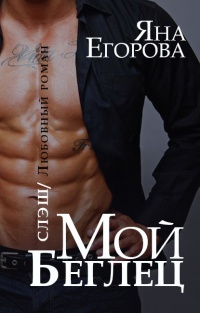Легкое движение лица Тессы выдало ее еще сильнее. Выходит, он заставил ее разозлиться? Хорошо. Даже это было лучше, чем та ледяная апатия.
— Вам так кажется, Киттридж? Моя дочь едва не умерла.
Она думает, что он забыл вид Тессы в ту ночь? Кровь, залившую ее платье? Недели неподвижности? Он снова посмотрел на свою тешу.
— Правда, мадам? — Это была самая безопасная фраза, особенно если учесть, что ему хотелось наорать на нее.
Но ее темперамент был не менее пылкий, чем у него.
В лице Елены было не просто презрение. Это была ярость. Она была лишенным сострадания драконом в самый момент неотвратимого возмездия. Джеред даже подумал, что же помешало ей испепелить его пламенем?
Она подошла к дочери и сдернула халат с ее правого плеча. Его жена издала какой-то протестующий звук и попыталась вырвать ткань из рук матери. Елена намеревалась потрясти его? Ей это удалось.
— Вы сомневаетесь в этом?
Когда-то кожа Тессы была совершенной, такого светлого оттенка, что напоминала сливочный крем. Это была грудь, которую он ласкал и дразнил, плоть, которую он целовал. Рана располагалась на полпути к соску, уродливый красный шрам.
— А еще один такой шрам под грудью, Киттридж, где ее разрезал доктор. Он вдувал воздух в легкое, чтобы она могла жить. Вы и теперь считаете ее здоровой?
Надо было ему подстричь ногти — они так впились в его ладонь, что он ощутил резкую боль. Как же ему сейчас хотелось придушить его несносную тещу!
Он слегка поклонился и вышел из оранжереи.
— Теперь ты видишь, каков твой муж? — с возмущением произнесла Елена.
Тесса поправила халат и осторожно спустила ноги с оттоманки. Прошло шесть недель, но ей все еще было трудно двигаться. Конечно, не так, как в первые недели, но она так полностью и не освободилась от памяти о своем ранении.
А теперь об этом не забудет и Джеред.
— А чего вы ожидали от него, мама? Чтобы он упал на колени в рыданиях?
— Немного раскаяния ему бы не помешало.
— Джеред непричастен к моему ранению, мама. Это был несчастный случай.
— Тесса, что ты делала на церковном дворе? — Этот вопрос был задан ей в первый раз. Что скажет ее мать, если она поведает ей правду? «Убегала от Джереда. Убегала от моего брака».
— Это не имеет значения, мама, я не хочу об этом говорить. Не сейчас. Потом как-нибудь.
Елена вздохнула.
— Ты все еще любишь его, да?
Тесса с трудом улыбнулась. В последнее время стало невероятно трудно сохранять оптимизм.
— Я уже не уверена в этом. Мы любим кого-то потому, что он похож на нас, или потому что непохож? Я любила Джереда потому, что находила в нем то, чем можно восхищаться. Или только делала вид, что в нем что-то должно быть такое, что не оставит меня равнодушной. Или я просто была уверена, что моя любовь способна изменить его…
— Если ты выходила замуж, полагая, что сумеешь изменить его, Тесса, я бы еще тогда могла сказать тебе, что это бесполезно. Женщины пытаются делать это от времен Адама и Евы, и у них это никогда не получается.
— Но мы все еще верим, что это возможно. Значит, это только наша самонадеянность?
Смех матери удивил ее. До сего момента в этот день юмора в их разговоре не просматривалось.
— Боже мой, ты говоришь как Дидро. Он совсем не любил женщин. — Елена помедлила, глядя в потолок, как будто чтобы найти слова, написанные там. — «Непостижимые в своем притворстве, жестокие в своей мести, упорные в своей цели, беспринципные в выборе средств, оживленные глубокой и скрытой ненавистью к подчинению мужчины». — Она махнула рукой, как будто чтобы припомнить оставшиеся слова. — И что-то о вечном заговоре ради господства.
— Получается, что мы очень опасны, — сказала Тесса, улыбаясь в ответ.
— О, мы действительно можем такими быть. Но мы, женщины, должны начать с признания правды о самой жизни. Тогда, и только тогда, мы можем на этом фундаменте что-то строить. Мы должны верить не в то, что может быть, а в то, что есть. А потом научиться жить с этим. Это уже от нас зависит.
Она погладила тыльной стороной ладони пылающую щеку дочери.
— Правда, я не знаю, есть ли в этом смысл, дитя мое. Просто прими на слово. Не борись, не трать понапрасну силы.
— А счастье? Как можно быть счастливой? — Тесса отвернулась и стала смотреть в окно.
— Опять-таки смирение, Тесса. Надо жить, наслаждаясь каждым днем, отыскивая лучшее в себе и для себя. И быть благодарной за любовь, когда она приходит.
— Но что делать, если человек, которого любишь, не способен ответить взаимностью?
— Я не тот человек, кого можно спрашивать о Джереде Мэндевилле. Боюсь, мой взгляд на твоего мужа несколько пристрастен.
— Он не нравится вам, да?
Елена улыбнулась, провела рукой по волосам Тессы.
— Я не терплю надменных мужчин. И признаюсь, что была очень обрадована тем хладнокровием, которое ты продемонстрировала. Но если он не нравится мне, Тесса, то это большей частью из-за боли, которую он причинил тебе. Но, в конце концов, не имеет никакого значения, что я думаю о Киттридже. Главное — твое мнение, не так ли?
— Джеред раньше ненавидел мою привычку задавать вопросы, мама, — сказала она, сопровождая свои слова дрожащей улыбкой. — До этого момента я и понятия не имела, что он чувствует на самом деле. Этакий «терра инкогнита».
Он любил свой дом, любил его историю, некоторую даже театральность его великолепия. Гордился также и тем фактом, что он представлял десятое поколение Мэндевиллов, что его родословную можно проследить до первого герцога, пожалованного дворянством за отвагу в битве.
В его доме было больше трех сотен окон, сто из них были видны с подъездной дороги, огибающей реку Най. Джеред любил ездить верхом вдоль старых дубов до изгиба дороги. Разлука с этими местами заставила его еще сильнее осознать красоту величественного здания, которое так долго принадлежало его семье.
Най катил свои воды под аркой высокой стены с бойницами, обеспечивая замок водой даже во время осады. Сохранились две орудийных башни по бокам внешнего двора, в их крепостных стенах до сих пор сохранились разбитые кирпичи и облупившийся раствор там, где Киттриджи обстреливали свои пушки во время гражданской войны. Свидетельства истории были везде, куда ни посмотри, как будто его дом сам был живым примером, монументом стойкости и упорства англичан. Киттридж-Хаус напоминал ему все лучшее и выдающееся, чем была Британия, — какая-то убежденность, вера в продолжение того, что было раньше, самодовольная уверенность в том, что как было вчера, будет здесь и завтра, и всегда. Но сейчас он не мог дождаться, когда уедет отсюда.
Даже в родном доме он чувствовал себя чужим, никому не нужным. Его сердце, казалось, было пересажено другому; жестяной стук скорее всего мог принадлежать телу постороннего человека.