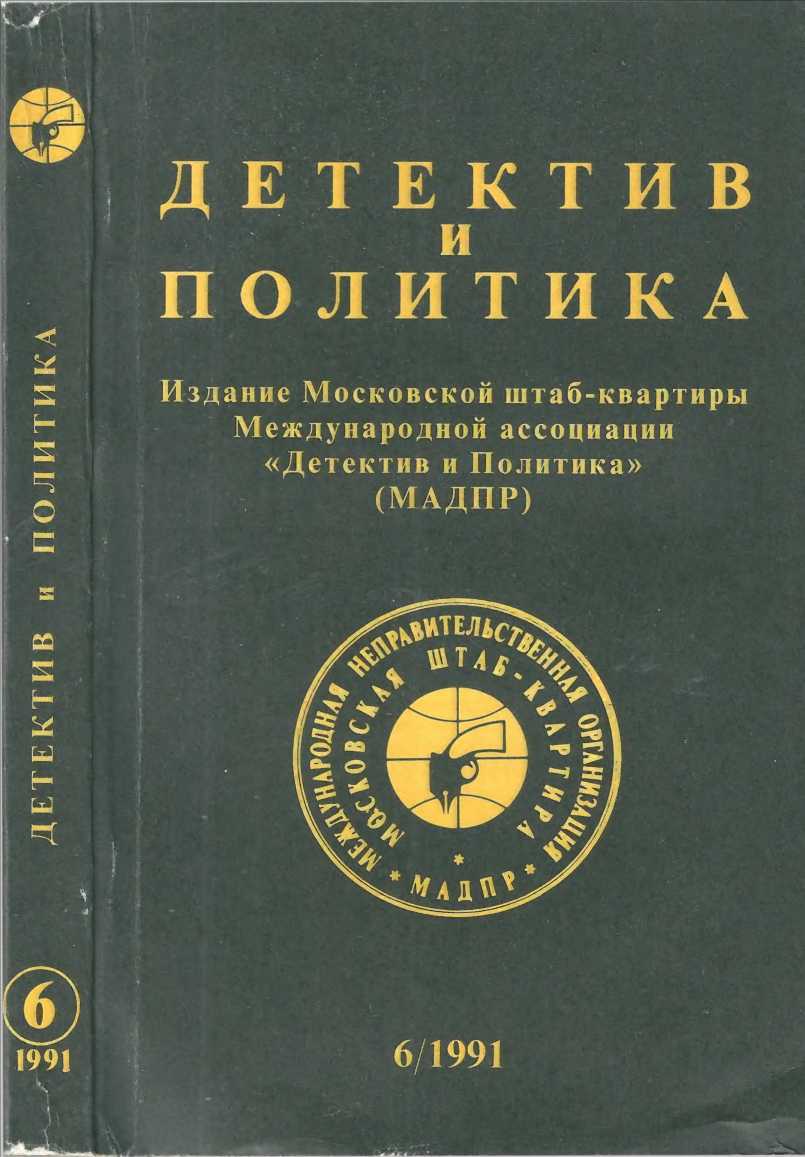Видимо в домашних ритуалах заполнения заварочного чайника, нарезания хлеба на специальной деревянной дощечке, в расстановке чашек на годами заведенные традиционные места заключалось обыденное и святое, уютное семейное счастье. Батя, повязал кухонный фартук поверх форменных аэрофлотовских брюк и рубашки. Висящие на вешалке в коридоре китель, галстук и фуражка, говорили о его намерении идти на службу. Сегодня и всегда, так заведено в нашем доме, и завод этот, с точностью морского хронометра никогда не дающего сбоев, должен поддерживать его жизнь.
— Что решил, сынок? — Спросил, повернув гладко выбритое опасной бритвой, обветренное вихрями сотен взлетевших и совершивших посадку самолетов, лицо.
— Срочно делаю копии всех материалов. Заверяю у нотариуса… Еду выяснять обстановку. Начну, пожалуй, с поисков свидетелей. С архивов. Затем, разберусь с автором пасквиля. Набью морду, заставлю пойти вместе в газету. Потребую, напечатать еще раз ту, самую первую статью, сорок пятого года. Затем вернусь и попробую присоединить фамилию отца к своей, то-есть сделать ее двойной. Думаю, что мне, исходя из документальных материалов, не откажут.
— Бог в помощь, — Сказал отец, — Боюсь, не все будет просто. Не хочу отговаривать, но живя в закрытых гарнизонах, ты не очень четко представляешь ситуацию в стране. Прийдется тебе очень нелегко, сынок. Знай, в любом случае, я уважаю твой выбор и твое право решать.
Молча, а батя всю жизнь был молчуном, мы позавтракали, выпили традиционный утренний чай. Крепкий и сладкий словно поцелуй любимой женщины — говорил раньше батя нежно поглаживая тонкие красивые пальцы мамы. Сегодня он промолчал. Пожал на прощанье руку, пожелал удачи.
Расставаясь с человеком, который не безразличен, кого уважаешь и любишь, никогда не веришь, что это прощание может быть последним, разговор может оказаться незаконченным, а вопросы незаданными или безответными. Подспудно, интуитивно мы всегда предполагаем, что те кто нам дороги — вечны, что они постоянная и неизменная составляющая часть нашего мира. Но приходит момент, а приходит он чаще всего неожиданно, будто удар исподтишка, и ты оказываешься один на один со своим горем перед свершившимся, посреди, разрушенного, ранее такого уютного мирка, среди враз рухнувших устоев бытия, с ощущением невосполнимой утраты. В то утро мы коротко попрощались, и отец ушел.
Глава 12. ЕвропейскаяВоздушный трудяга, ТУ-104, первенец мирового реактивного авиастроения, а ныне старикан, доживающий жизнь на внутренних авиалиниях, содрогаясь заклепками старого, с военным запасом прочности смастеренного корпуса, выгрузил пассажиров на поле Пулковского аэродрома. Подхватив парадный кожанный, вместительный портфель я прошел к стоянке такси, обходя стороной ринувшихся к багажной стойке попутчиков. Летевшие со мной в самолете люди прибыли домой, их ждал гарантированный ночлег и уют. Для меня же поиск места в гостинице оказался задачей номер один, усложненной ночным временем прибытия, запоздавшего, как водится, рейса.
На стоянке, короткой стайкой, притулились машины такси. Возле головной стояли, куря в ожидании поздних пассажиров, водители. От кучки таксистов отделился молодой парень в махонькой кожанной кепочке, приглашающе дернул подбородком, открыл дверку салона, обошел машину, тыкая поочередно ногой скаты, сел в кабину и включил счетчик.
— В гостиницу.
Можно было попытаться устроиться в гарнизонную Красную звезду, но армейские слухи разнесли по стране совершенно невероятные известия о ее сомнительных удобствах. Генералов селили по три, четыре в номере, майоров, в лучшем случае, укладывали на раскладушку в коридоре. На раскладушке в коридоре спать не хотелось. Накопившиеся деньги, за неиспользованные отпуска, полетные, пайковые, классность, вредность и прочая, и прочая, создавали иллюзию богатства, сулили свободу выбора.
— В какую у Вас бронь? — Спросил водитель не оборачиваясь.
— Где не надо брони.
— Таких еще в Питере не построили.
— Тогда давай сначала в ту, что поближе. Попытка не пытка.
— Пустые хлопоты, товарищ майор, поверьте.
— Давай, крути, а там видно будет. — Машина двинулась по ночным улицам. В Ленинград я попал впервые. Пролетать над ним, да, доводилось. Вот, наконец, и приземлился. Окраина города, по которой ехало такси, выглядела на удивление скучной, темной и пустынной. За стеклом мелькали заводские заборы, низкие красновато-кирпичные старые постройки, новые девятиэтажные серые жилые дома, затемненные витрины Гастрономов и Промтоваров. Словом, стандартный советский городской пейзаж, ничего величественного и впечатляющего. Скоро показалась и гостиница. Дав таксисту пятерочку сверху, я попросил его на всякий пожарный подождать. И оказался прав. Вернее прав оказался таксист, предрекая фиаско с попыткой устроиться в гостиницу без брони. Заспанная и злая как мегера дежурная отказалась даже разговаривать на тему ночлега. Во второй гостинице со мной говорил швейцар… через закрытую дверь. Я призывно махал сиреневым четвертаком, на что швейцар только, с видимым сожалением, разводил руками.
— Где у Вас самый шикарный отель, мсье? — Спросил у водилы, в очередной раз вернувшись не солоно хлебавши.
— Европейская, на Бродского… Интуристовская. Туда и соваться не стоит, майор. Тем более в форме. Кругом одни иностранцы да контрики.
— К черту, контриков, поехали. — Во мне медленной вязкой волной начала вскипать тупая горячая волна злобы и ненависти. Ненависти к жизни, которая кадрового офицера ВВС ставит в униженное положение просителя перед дерьмовыми швейцарами и бессовестными тетками в гостиничных конторах. Ставящей защитника Родины в очередь после последней заезжей иностранной шелупени, лишь здесь и познающей радость бытия в роли первосортного белого человека, высокомерно взирающего сквозь зеркальные стекла на серую, копошащуюся где-то у колес автобуса, массу пришибленных жизнью аборигенов.
Закипала злость и к мерзавцу, унизившему память героя, заляпавшего грязью имя мертвого, не способного постоять за себя человека. Вот из-за таких унижаюсь воробьиной ночью перед людишками изначально обязанными уважать не только лично меня, но прежде — мундир, погоны, просто принадлежность к военной элите страны. Обязанных видеть во мне государева человека.
— Надолело карячиться, — Сказал вслух. — Жми к Европейской.
Несмотря на поздний час, подъезд Европейской радостно сиял огнями и кишел, в отличие от других, добропорядочных, гостиничных дверей пестрой, ненашенской публикой. Я бесповоротно расчитался с водителем, накинув ему за труды червонец сверху. Отрезав пути к отступлению, подхватил портфель, вышел и решительно толкнул мягко поддавшуюся старинную дверь. Удачи, командир! — Донеслось от такси, мигнувшего на прощание фарами.
Вестибюль отражался в огромных от пола до потолка венецианских зеркалах всеми своими хрустальными люстрами. Переливался искрами простеночных бра, кивал сочными зелеными веерами пальм, отсвечивал дубовыми панелями… Привычный к скромному унифицированному обаянию военторговских гостиниц, стандартно одинаковых, что в Чите, что в Бобруйске, я был напрочь сражен величием, богатством и старинной роскошью Европейской. Поражен был, но виду не подал, сказалась все же армейская закалка и выдержка, поэтому, быстренько соорентировавшись, прямиком двинулся к стойке регистрации.