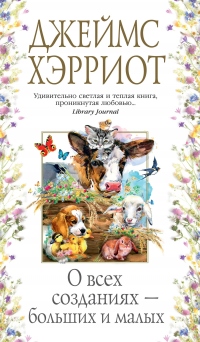Не-а. – сказал Берт.
– Почему? – спросил ее отец. Он был глубоко убежден в том, что высшее моральное достижение – выглядеть благообразно на публике, а дома в основном молчать.
– Ну, если быть совсем уж кратким, – пояснил Берт, – английская еда отвратительна.
– Что ж, – сказал ее отец, – тогда все ясно.
– А ты была во Франции, – сказала мать Анны. Это прозвучало почти как обвинение.
– Да. Несколько дней в Италии. Мы полетели в Рим.
– Мы?
– Да, с другом.
«Другом» была Молли, но Анна не хотела давать матери повода думать, что это был не мужчина.
В третий, последний, вечер Анна с отцом пошли в бар отеля, пропустить по стаканчику на ночь; бар был слишком модерновым, с искривленной черно-красной стойкой. Но в его оправдание он был почти пуст.
Берт снова был на нечеловеческой ночной смене в больнице, а она сходила с родителями на «Тома и Вив» в Общественный театр; современные постановки мало ее интересовали, но на эту пьесу ей действительно хотелось сходить. В итоге она была вне себя от гнева.
– Этот Т. С. Элиот – нехороший человек, – сказала ее мать, когда все кончилось.
– В пьесе всю их историю переврали, – сказала Анна. – Вот почему на сегодняшний день она так хорошо смотрится: это просто сентиментальное вранье. И актеры подобраны не те.
Ее мать ложилась рано и пошла спать, отец всю жизнь был членом клуба страдающих бессонницей. Когда Анне было шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и она поздно возвращалась домой, она встречала его в комнате, называемой кабинетом, забавной комнате с телевизором, диваном и большим столом красного дерева с отделанной кожей крышкой и рабочим креслом с зеленой кожей, пришпиленной латунными кнопками к вишневой раме. Стол и кресло были владениями ее отца, и там не сидел никто, кроме него, но диван и телевизор, если только он не устраивался за столом, были общей территорией. На стене висела картина маслом, которой отец до некоторой степени гордился: на ней медведь, вставший на задние лапы, скалил зубы, передними лапами обхватив дерево. Отец говорил, что они шатают деревья, чтобы впечатлить самок. В детстве она думала, что такого особенного медведицы находят в шатающемся дереве. Странно, что ее мягкосердечный отец не только владел такой картиной, но и гордился ей – может быть, ему не хватало такой же дикой мужественности. Мысль эта была комичной и уместной.
– Хочешь бренди? – спросила Анна. – Давай возьмем бренди.
– Ну что ж, ради поездки по такому случаю… – ответил отец. Что за человек, никакой конкретики. Никогда не скажет «да» или «нет». Только фразу, означавшую нежелание быть вовлеченным в желание или нежелание. В юные годы она не понимала, как часто это пустое качество проявлялось на людях, хотя его способность постоянно отсутствовать или говорить любую бессмыслицу, не выражая собственного мнения, уже была ей хорошо знакома.
Она заказала каждому Martell, чуть разбавленный холодной водой.
– Я очень зла на вас, – сказала она, отпив из бокала.
– Что ж, мы об этом догадывались, – ответил отец. Он тоже сделал глоток и вздрогнул.
– Нам нелегко пришлось, ты же знаешь, – продолжил он, немного помолчав.
Она смотрела на него с ненавистью, но ничего не могла с собой поделать. Может, лучше смотреть на бокал коньяка?
– Мы лишились обоих детей: сперва Марка, потом тебя, – сказал отец. – Что мы такого сделали? Чем заслужили это?
Она хотела сказать, что причина в том, что они бездушные, но это было бы слишком жестоко и не совсем справедливо, судя по его виду сейчас. Сколько страдания в его лице после всех этих лет. Господи, и почему ей было так жаль его? Вот что с тобой делают мужчины: отцы, мужья, любовники, все подряд. Проявляют так мало чувств, пока ты не изголодаешься, а когда соизволят проявить, ты их прощаешь и принимаешься утешать. Да в пизду. В пиз-ду.
– Когда Марк ушел из дома, после звонков, когда время растянулось и вы мерили его минутами без Марка, часами без Марка, днями без Марка, месяцами без Марка, а затем годами без Марка…
– Мы… – он попытался что-то сказать.
– Нет, – оборвала его она, – нет, дай закончить. Это было нормально, неизбежно, и у меня душа разрывалась от этих страданий и до сих пор разрывается. Из-за этого у меня до сих пор нет семьи. Я должна была уйти от этого. Мне приходилось отгораживаться от этого, пока я еще жила с вами, и…
– Но что мы могли сделать?
– Побороть в себе это горе со временем, работать над этим, не давая ему себя поглотить. Могли бы, я не знаю, жизнь свою ебаную заново начать. Или попытаться снова жить ради своей дочери. Ради живой, настоящей дочери, нового центра вашего мира, а не просто напоминания, заменителя среди всей вашей тоски. Но ведь о таком не попросишь, это же невозможно, так ведь? Марк не умер, его не похитили, и он не лежал в коме после того, как нажрался в хлам и разбился на машине с друзьями-подростками, он просто ушел из дома, не звонил и заставил вас ждать. Двадцать лет.
И до того, как она смогла помешать этому, ее накрыло, захлестнуло волной, и она разрыдалась, судорожно всхлипывая, слезы стекали по щекам, падали на колени, из носа текло, а рот раскрылся, не в силах выговорить слова, которые нужно было сказать, снова и снова звучавшие в ее голове: «Я люблю своего брата, я люблю своего брата, я люблю своего брата. Куда он пропал? Где мой чудесный брат?»
Но она никогда так и не произнесла их.
Спустя год после свадьбы у Берта выдалась свободная неделя для медового месяца. Назад, в la bell’Italia[89]. Начало в Риме (у нее было больше свободного времени, Берт нагнал ее во Флоренции), конец в Венеции. Там было просто невероятно. Анна ждала чего-то менее правдоподобного, думала, что все рассказы о ней высосаны из пальца, но нет: свет был воистину благословенным. Квинтэссенция воплощенной красоты: свет и форма. Форма, приданная камню, скульптурам, бесконечное разнообразие цвета в пределах определенных оттенков, от песочно-желтого в Риме, красного крипича, терракоты и темно-серого на севере до бледного розовато-лилового и цвета запекшейся крови на ветшающих стенах Венеции. Они сели на поезд от Флоренции до Падуи – оставались в Падуе, чтобы сэкономить на отеле. В Венеции все было дорого, но в других городах, с курсом доллара один к восьми сотням лир, все было дешевле некуда, хорошие комнаты в пансионе за двадцать тысяч лир, полный обед на двоих из трех блюд, вино,