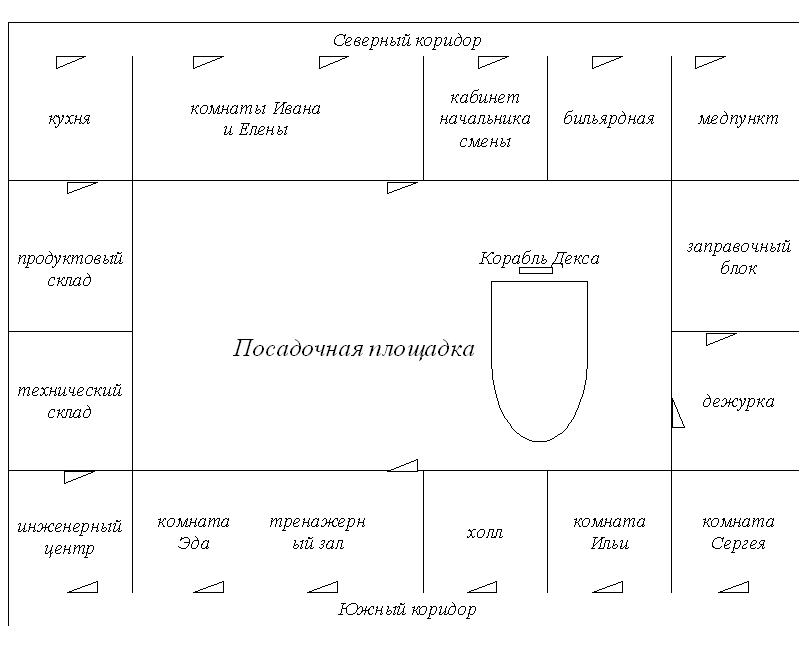и фессалийской границ. Себе же римляне оставили Закинф и Кефаллению – отсюда, когда поднакопят сил, удобно будет двинуться к Пелопоннесу.
Больше всех повезло Эвмену, за счет Мисии, Ликаонии и обеих Фригий почти вдвое увеличившему свое царство. Но в ответ на поздравления счастливого, раскрасневшегося Аттала он сказал так:
– Не радуйся и не обольщайся, брат. Римляне, как ростовщики: то, что дают одной рукой, другой потом отнимают, сорвав приличный барыш. И, боюсь, уже недалек тот день, когда нам придется пожалеть об их «дружеской» щедрости. Тихе-Удача непостоянна. Но я задумал такое, благодаря чему Пергам действительно прославится в веках и на него будут дивиться окрестные народы – большой алтарь в честь победы нашего отца над галатами. Пусть лучшие скульпторы Греции изобразят на фризе битву богов с гигантами. Мирный огонь его жертвенника будет гореть для всех эллинов, и память о нас не угаснет в потомках. Однако мне понадобится помощь – твоя, Филетера и Атенея...
Аттал протянул к нему обе руки и порывисто заключил в объятия.
– Рассчитывай на меня, государь. Я клянусь тебе как подданный и обещаю как брат. Твоя жизнь – моя жизнь, и дети твои будут моими детьми. Что бы ни случилось между нами, я никогда тебя не предам.
Эвмен улыбнулся.
– В этом, брат, я не сомневаюсь. А теперь – в дорогу! Дома нас уже заждались.
* * *
Над Пергамом сияло солнце.
По обе стороны широкой белой дороги выстроились ликующие толпы – встречать победителей высыпал и стар и млад. И в отличие от кислого римского приема эта радость была искренней. А поскольку со времен основателя династии Филетера пергамский народ не привык стесняться в общении со своими кумирами, из общего гомона приветствий то и дело вырывались растроганные и бурные возгласы, грубоватые шутки и похвалы. Успевшие хлебнуть по чарке мужчины одобрительно покрякивали, кивая головами. Вот сын, не посрамивший имени отца, правитель столь же мудрый, сколь доблестный воин – и пусть боги не наградили его ляжками Геракла, зато наделили другими качествами, незаменимыми для государя. Женщины поднимали вверх своих детей. Ребятишки постарше путались в ногах у взрослых, норовя пробраться в первые ряды – когда еще такое увидишь! Юноши и девушки в нарядных одеждах бросали под копыта царского коня розовые венки, лили вино и молоко, смешанное с медом. «Да здравствует царь Эвмен и брат его Аттал! – кричали они. – Слава нашим Диоскурам!»
Триумфальное шествие растянулось на много стадий. Тяжело печатая шаг, маршировали колонны гоплитов; яростно горела медь их надраенных щитов, а наконечники копий сверкали, будто молнии Громовержца. Чинно выступали лучники с перекинутыми через плечо огромными луками и подвешенными у бока колчанами. Шли метатели дротиков и пращники. Грохоча, катили колесницы. Лошади в праздничной сбруе, изгибаясь, встряхивали гривами, в которые солнце вплело каскады золотых искр, а всадники, красуясь молодецкой осанкой, перемигивались со знакомыми гетерами, предвкушая радости любви. Круторогие волы с подрагивающими розовыми ноздрями и глазами, исполненными странной печали, тащили повозки с трофеями – богато отделанным оружием, драгоценной утварью, сосудами с благовониями, вином и маслом. Но больше всего впечатляли захваченные в бою сирийские слоны – сейчас, впрочем, смирные и вполне добродушно глядевшие по сторонам, разве что погонщик, на потеху зевакам, принимался щекотать гиганта копьем – и тот, задравши хобот, оглашал окрестности трубным ревом.
У обочины стояло семейство какого-то зажиточного ремесленника: благообразный мужчина с окладистой бородой, его румяная жена, надевшая по такому случаю свой лучший хитон, и хорошенький мальчуган лет шести, со смешными кудряшками и невероятно длинными ресницами, которого отец для большего обзора усадил себе на плечи. Мальчик был взбудоражен всем этим множеством веселых, нарядных людей, гулом их восклицаний и сверканием оружия, а вид серого великана, вышагивавшего по пергамской мостовой, привел его в совершенный восторг.
– Папа, мама, посмотрите какой огромный! – закричал он, подпрыгивая от избытка чувств и молотя кулачками по отцовским плечам. – Когда я вырасту – обязательно пойду на войну, и у меня тоже будет такой!
И прежде чем родители успели вмешаться, озорник бросил слону охапку цветов, которую тот перехватил на лету и сунул в маленький рот. Потом, вытянув хобот, он обвил им мальчика и поднял в воздух. Молодая женщина вскрикнула от ужаса. Толпа замерла, из сотни округлившихся ртов вырвалось дружное: «Ох!» Но слон с осторожностью, поразительной для такого колосса, опустил ребенка себе на спину. Толпа выдохнула. Виновник переполоха завизжал от радости и захлопал в ладоши. Вокруг засмеялись, и даже хмурые черты Филодема, несмотря на тягостное и страшное воспоминание, разгладились в подобии улыбки.
Всю дорогу он искал глазами Поликсену, хотел и боялся ее увидеть. Однако желанное лицо не мелькнуло среди других.
А между тем настал кульминационный момент торжества. Царю подвели молодого бычка с гирляндами цветов на позолоченных рогах. Эвмен, сознавая, что на него обращены взгляды не только войска, но и всего народа, взял у брата кинжал, не спеша примерился и сразил животное одним ударом. Потом он совершил благодарственное возлияние богам, и когда последняя янтарная капля упала на жертвенник, жрица Афины Никефорос – Победоносной – надела царю лавровый венок.
– Ис полла эти! – Многая лета! – грянула толпа.
Люди целовались, кричали, плакали, и уже никто не старался сдерживать своих чувств.
На плечо Филодему опустилась чья-то рука. Это был одноглазый Критолай, прозванный за увечье Циклопом – самый старый из его боевых товарищей. Немного их осталось.
– Мы тут решили закатить пирушку в погребке Леонтиска. Ты как – идешь?
Но бывший гиппарх покачал головой. Он по очереди обнял приятелей, с которыми без малого два десятилетия делил все радости и невзгоды, и, пожелав им хорошенько повеселиться, направился к знакомому дому.
Однако чем ближе он подходил, тем неспокойнее становилось у него на душе, болезненно заныло сердце. Сколько раз представлял себе эту сцену – а вот, поди ж, не готов!
Навстречу из ворот семенящими шажками выбежала Харикло. При виде Филодема она всплеснула руками и опрометью бросилась назад в дом, крича:
– Госпожа! Госпожа! Господин вернулся!
У порога опочивальни он помедлил, пытаясь справиться с участившимся дыханием, но пальцы уже потянулись к висевшему на двери ковру и привычным движением откинули его в сторону.
С памятной ночи здесь ничего не изменилось. Бронзовая лампа, заправленная благовонным маслом, проливала свет на широкое ложе, застланное покрывалом из шерсти таврских коз. Как в часы любовных утех, возбуждающе пахло амброй, миндалем и мускусом. На низеньком столике стояли две