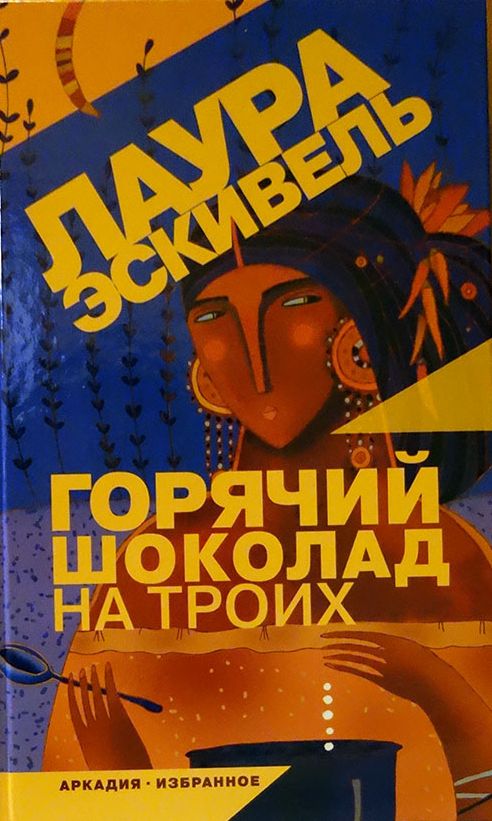лет; отец ее не смог даже заплатить могильщикам и потому вырыл сам еще одну жалкую ямку за лачугой, возле другого ребенка — мертворожденного, вернувшегося в Колесо, в Мир между мирами, не успев почувствовать, как воздух обжигает легкие; он воплотится вновь в далеком будущем, в двадцать втором веке — веке Великой засухи и запустения, когда все будет умирать, исчезать и гореть вплоть до возрождения Времен и наступления эры Майтреи — Будды будущих времен, Будды доброжелательной любви, когда нынешняя Дхарма уйдет, но сохранится иллюзорный мир Сансары и сознаний, ввергнутых в Колесо и жаждущих пробуждения, как новорожденный жаждет воздуха и растение света.
Д’Обинье провел с Генрихом Наваррским в Ниоре весь день, а затем отправился во главе своего отряда дальше покорять для своего друга другие земли; в первый день года будущий Генрих IV пишет своей прекрасной Коризанде — Диане д’Андуэн:
Ужели суждено мне писать вам лишь о взятии городов и крепостей? Ночью мне сдались Сен-Мексан и Майлезе, и надеюсь, что до конца сего месяца вы обо мне услышите. Король торжествует: приказал удавить в тюрьме кардинала де Гиза, затем на сутки выставить на площади повешенными президента невильского и прево торговцев, вместе с секретарем покойного г-на де Гиза и еще тремя. Королева-мать сказала ему: «Сын мой, соблаговолите исполнить то, о чем я вас прошу». — «Смотря что за просьба, сударыня». — «Чтобы вы отдали мне господина де Нему-ра и принца де Жанвиля. Они молоды, однажды они вам послужат». — «Охотно, сударыня, — сказал он. — Вы получите их тела, я же оставлю себе головы». Он послал в Лион схватить герцога Мэнского. Неведомо, сколь он в том преуспел. В Орлеане сраженье, и даже ближе к нам, в Пуатье, откуда я завтра буду всего в семи лье. Пожелай того король, я бы их скоро примирил.
Сочувствую, если у вас стоит такая же погода, что и здесь, ибо мороз не спадает десять дней кряду. Жду лишь часа, когда услышу о том, что послали задушить бывшую королеву Наварры. После такой вести, наряду со смертью ее матери, мне впору будет запеть песнь Симеона Богоприимца.
Письмо сие слишком длинно для воина. Доброго вечера, душа моя, целую тебя сто миллионов раз. Любите меня по заслугам моим. Ныне первый день года. Бедный Арамбюр стал одноглаз, а Флеримонт близок смерти.
Наваррец немедленно утверждает д’Обинье губернатором Майлезе, древнего укрепленного аббатства и цитадели католического епископа на острове посреди болот; через несколько недель Агриппа вернется в Мюрсе, к перу и семье, и, как обычно, проведет с ними конец зимы.
Бедный Арамбюр стал одноглаз, а Флеримонт близок смерти.
Генрих Наваррский споет песнь Симеона на следующий год, когда умрет его теща Екатерина Медичи, — она стала ночной бабочкой, чья толстая белая личинка ползала во тьме и муках метаморфозы, затем куколкой в тесном коконе, который прорвала своими крыльями, и, наконец, мотыльком во дворе Лувра, ослепленным большим уличным фонарем, вокруг которого она долго кружила, прежде чем опалить крылышки и умереть, и тут же возродиться другой личинкой во тьме, ибо нелегко разорвать цепь ужаснейших перевоплощений, если к ним привела целая жизнь, полная низостей и преступлений.
* * *
Когда Кейт и Джеймс, чета английских пенсионеров, поселившаяся на окраине деревни, согласилась принять начинающего этнолога Давида Мазона и побеседовать с ним, они, как мы помним, испытывали настороженность и одновременно были странно польщены тем, что их повседневная жизнь представляет интерес для науки, и вдобавок для науки французской — ведь эта нация, как известно, никого, кроме себя, вокруг не видит. Джеймс сразу догадался (во всяком случае, так он сказал жене), что разговор будет вращаться вокруг решения британских граждан покинуть Европу и последствий для таких экспатов, как они, — Кейт считала, что она правильнее истолковала слова «этнологическое исследование», и ожидала визита пожилого господина в высоких сапогах и пробковом шлеме. Поэтому, когда Давид из-за сильного мороза отменил первую встречу, она почувствовала некоторое облегчение. Как и каждый год, к ним из Лондона приехали дети (шесть часов на поезде до станции Ниор), чтобы провести вместе рождественские каникулы, и вдоволь наелись жирной утки, копченой форели, устриц, крабов и лобстеров. Кейт и Джеймс жили в просторном доме, в прошлом тоже бывшем фермой, но, наверное, поменьше, чем у их соседа — художника-эротомана Максимилиана Рувра, зато с прекрасной верандой из кованого железа, красивым навесом над входной дверью и приятным садом, полным роз и гортензий, дорожек, посыпанных гравием, скрипевшим под ногами, где имелся колодец, пруд для птичек с металлическим херувимом и большой вольер с витыми прутьями, где пребывала пара белых голубей. Все эти элементы датировались началом XX века; единственное, что сделала Кейт (Джеймс посвящал свое время иным занятиям — счетам и судебным тяжбам), это хорошенько отшкурила ржавчину и покрасила все свежей краской. Дом они купили, по их словам, за краюшку хлеба, что на этой стороне Ла-Манша означало «за сущие гроши», и потому смогли сохранить за собой небольшой дом в Лондоне, в районе Хаммерсмит, где теперь жили их дети и которому близость к Темзе добавляла немало шарма и сырости, особенно зимой: такой плотный бывает туман, говаривал Джеймс, что в соседнюю комнату не докричишься.
И отважный антрополог Давид Мазон прибыл к ним 14 января и первым делом закатил мопед во двор, а потом снял шлем и стянул перчатки, любуясь садом, который, несмотря на зиму, нисколько не утратил очарования. Он проверил наличие оборудования, блокнота и диктофона и собирался уже задействовать звонок, расположенный с правой стороны от двери, но не успел — Кейт открыла сразу же. Джеймс ждал в приземистом старинном кресле модели «жаба», обретенном на летнем блошином рынке в Кулонж-сюр-л`Отиз вместе с большей частью открывшейся Давиду обстановки: антикварные гардеробы и буфеты из. светло-табачной древесины фруктовых пород, бильярдная в стиле ар-деко и, наконец, небольшая гостиная, где его встретил вставший из кресла Джеймс, — чудесное зимнее солнце лилось с веранды, и это зрелище как на берегах Темзы, так и на западе департамента Де-Севр было столь редким, что стоило упоминания. Джеймс про себя удивился молодости Давида, а также его почти идеальному английскому языку — и, что еще удивительнее, в британском, а не в американском варианте; Давид объяснил, что первые несколько лет учебы провел в Лондоне; и вскоре они уже обсуждали пабы, bubble & squeak и scotch eggs, отчего Давида охватила ностальгия, а Джеймса — острое чувство голода. Они уселись за милый ломберный столик, обитый зеленым сукном, который Кейт