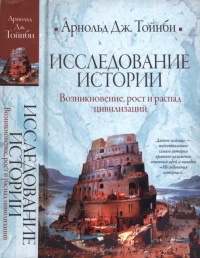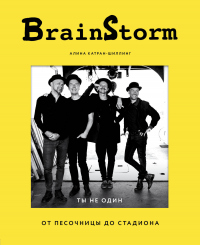инспектор, этот малый всегда был один. Что от него осталось? Фото в паспорте. Паспортные фото всегда похожи на множество людей; в серьезной ситуации они даже до почтовой марки ценностью не дотягивают, могут изображать хоть Виктора Эммануила, хоть Вильгельма Второго, хоть современного раввина, да сегодня и мужчину-то от женщины толком не отличишь. Надежные сведения сообщили только двое — лагерный врач и врач из больницы, доктор Филипсталь, что доказывает силу университетского образования. Больной Виндшлаг, вероятно туберкулезный и страдающий тяжелой дизентерией, большей частью общался с двумя парнями, с которыми еще на судне делил каюту — места третьего класса на борту парохода водоизмещением пять тысяч тонн, который, наверно, ходил между Триестом и Хайфой еще во времена императора Франца Иосифа. Эти двое молодых людей в конце концов сгустились для Эрмина в отчетливые фигуры. Один, загорелый, чернявый, с густыми бровями, энергичный, Бер Блох, как будто бы нашел работу в Хайфе, если Эрмин и агентство по трудоустройству имели в виду одного и того же человека. Вторым вполне мог быть тот мистер Гласс, которого Эрмин до сих пор неохотно выпускал из поля зрения. Если он решится и арестует его, вновь немедля наступят две противоположные возможности. В эти бурные времена арест еще одного рабочего-еврея по подозрению в убийстве мог пройти совершенно незамеченным; арест еще одного рабочего-еврея по подозрению в убийстве мог сейчас, когда страна гудит как растревоженный пчелиный улей, подтолкнуть весь рабочий класс Палестины к стихийной забастовке протеста. Что же делать?
Со вчерашнего дня в ящике ночного столика лежало письмо, трогательное послание его маленького союзника. Черт побери, теперь вообще ни у чего нет однозначного фасада! Эрмин развернул линованный листок с красивыми арабскими буквами, тщательно выведенными справа налево, и перечитал, подперев голову рукой, в третий или в четвертый раз. Письмо гласило: «Сидна Эрмин-бею, господину и другу, мир ему и привет. Как ты поживаешь? Как поживает твой верблюд? Как поживают твои дети, твоя жена и весь твой дом? Спасибо, у меня тоже все в порядке. Сердце мое в большой печали. Мы предали Отца Книг земле, и с тех пор мое сердце тоже в земле. Произошли большие беспорядки, много стреляли, многие мужчины ранены, унесли много убитых. Мы организовали отряд мальчишек, побывали всюду, лупили сыновей наших врагов, потому что они были врагами Отца Книг. Мои глаза в большой печали; но он пребывает на небесах с великими праотцами Ибрагимом, Исхаком и Якубом, и они воздают ему честь по заслугам его, которые велики. Увы, его дом сгорел, никто не приказал пожарным спасти его, не осталось ничего, кроме пепла и черного камня.
Знай, почему я пишу это письмо. Играя на кладбище у Баб-Сидхи-Мирьям[52], мы нашли в стенном отверстии за камнем бумагу, а в ней пистолет. Замечательный пистолет. Он меньше моей ступни и не имеет ствола. И курка тоже нет, а если несешь его на груди, он совсем незаметен. Нести надо, повесив на шнурке на шею. Ты говорил мне, что Отец Книг — да пребудет его душа в раю — убит остроконечными пулями. Без крайней необходимости никто с этим замечательным пистолетом не расстанется. Так я подумал. Один я, а больше никто, потому что моя душа в тревоге из-за убийцы друга. С тех пор как нашли оружие, мы стережем то отверстие. Мы завернули пистолет в бумагу и положили на старое место, хотя двое из нас были против. Но мы проголосовали, и моих сторонников оказалось больше. Если бы вышло иначе, пришлось бы поколотить их всех, чтобы они мне подчинились. Возвращайся, когда сможешь. Убийца еще долго не подойдет к этому отверстию, потому что город поделен между евреями, полицией и нами, а ворота Девы Марии и отверстие расположены на нашей территории. И сообщаю тебе: когда дороги вновь будут свободны и каждый сможет ходить где вздумается, день и ночь это отверстие будет под надзором, и от наших глаз он не скроется. Кроме того, обнаружившему его обещано вознаграждение, но это касается только моих товарищей. Как бы мне хотелось, чтобы Отец Книг был жив, за это я бы и пистолет отдал. Мир тебе. Приветствует тебя множеством поклонов Сауд ибн Абдаллах эль-Джеллаби, ученик шестого класса».
Улыбаясь и вздыхая, Эрмин снова положил письмо в ночной столик. Зевнул, вообще-то пора вставать, умываться, плотно позавтракать и немедля ехать в Иерусалим. Нельзя отрицать, его задача здесь выполнена, насколько это возможно. Наблюдение за мистером Глассом можно поручить смышленому местному полицейскому, а самому отправиться туда, где происходят важные события. Иерусалим по-прежнему разделен на два враждующих лагеря? Мог ли еврей уже добраться до ворот Девы Марии и забрать маленький браунинг? Перед собой Эрмин видел серовато-белую стену, ее нетесаные камни, отверстия, над которыми пыльные опунции топорщили свои колючки, точно проволочные заграждения. Стена длинная, поднимается вверх по Кармелю. Странно, что ее не заняли сразу же, не устроили огневые позиции по ее периметру. Ведь там ползли вверх по склону серые фигуры в касках! Для них это чертовски хорошее укрытие. Слева затрещал пулемет (по тихой улице как раз промчался к гавани мотоцикл), и Эрмин все глубже погружался в сон о бое, который, собственно, произошел добрых двенадцать лет назад у Кеммельских высот. На лбу у него выступили капли пота.
Этим утром Мендель Гласс потолковал с десятником Левинсоном: он, мол, хочет сменить место работы. Ищет место, которое обеспечит постепенный переход к прочной и удобной жизненной обстановке. Грохот взрывов в каменоломне не для него, он человек мирный, не по душе ему каждодневные напоминания о войне и боях. (Вчера вечером в бараке он чисто теоретически обсуждал с товарищами индивидуальный террор, под которым русские революционеры понимали покушение на отдельных лиц. Рабочие-коммунисты резко и презрительно отвергли эту идею, индивидуальным террором занимались ничтожные эсэры, социалисты-революционеры, и всем известно, многого ли они этим добились. Борьба классов, честная, беспощадная борьба диктатуры пролетариата против эксплуататоров не нуждается в таких детских взрывах отчаяния. А тот, кто, бессмысленно науськивая фашистов и полицию, ухудшает положение трудящихся, не может рассчитывать у них на ответную любовь.) Левинсон сказал, что сожалеет о его решении.
— Разве ты не хотел сохранить здешнее место за своим товарищем Бером Блохом? — спросил он на идише, так как не признавал другого еврейского языка.
Да, хотел, ответил, помедлив, Мендель Гласс, но Блох вернется из Иерусалима через несколько дней, как только дороги будут свободны. А ему как раз представилась через инженера Заамена очень хорошая возможность. И во