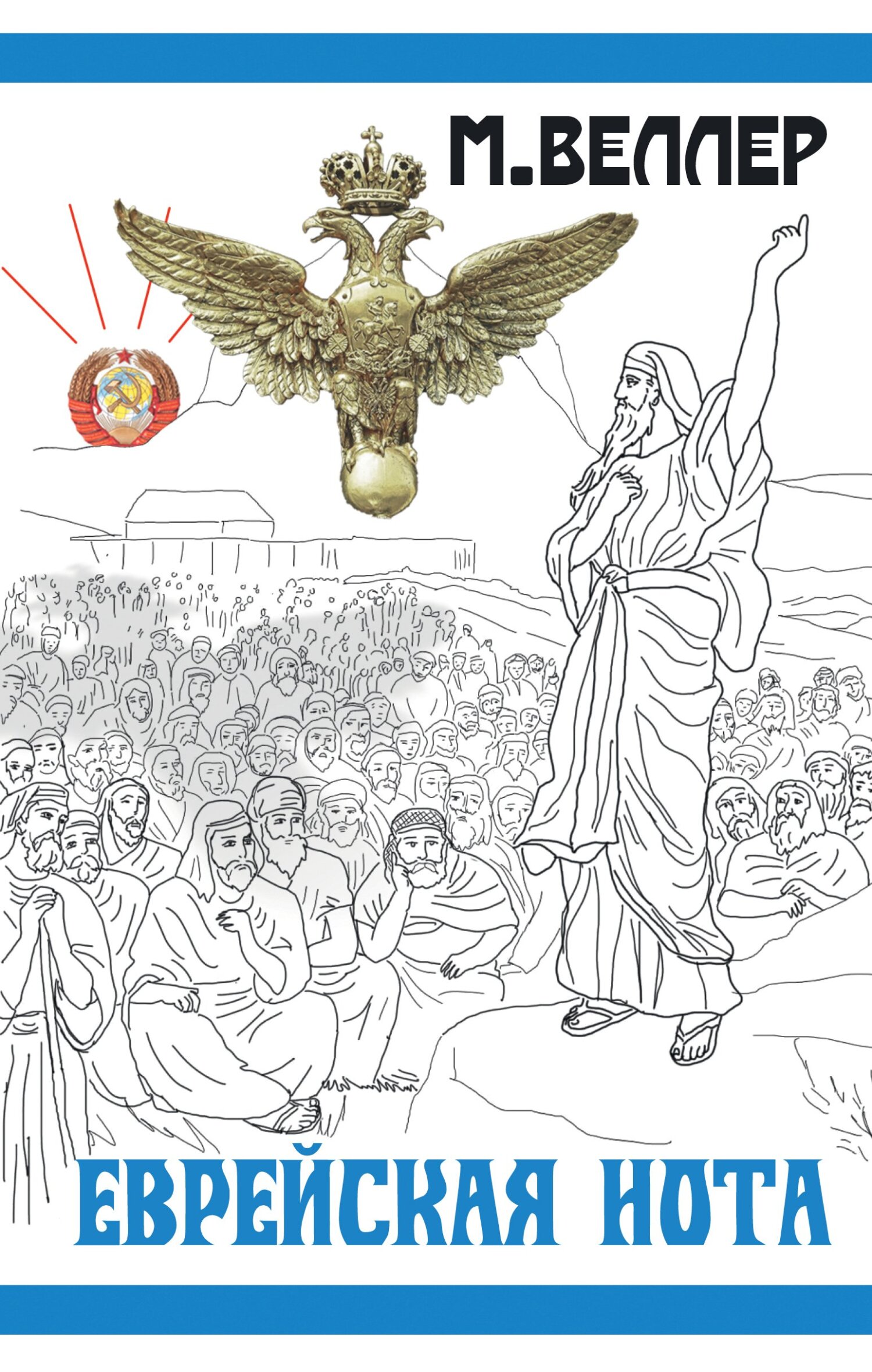«подлинно-философским трактатом», написан довольно сухо, с сугубым вниманием к грамматическим правилам и «академической» идиоматике и фразеологии, которыми так часто пренебрегал мастер литературного обновления Нуайме. Почти триста страниц оригинального текста «Последнего дня» – не что иное, как ученические заметки косноязычного, испорченного формальностями и жаргонизмами профессора «одного из лучших университетов страны». Герой романа смешон в своих же глазах, а его слог вызывает уважение разве что у еще менее красноречивых односельчан; «оживляют» его мертвые рассуждения лишь просторечия пожилой служанки ʼУмм Зайдан да напряженная фабула достаточно скромного по своим объемам произведения. Почти каждый «час» одних рассуждений перечеркивает предыдущий. Ал-ʻАскари исповедуется в своем «временном» слабоумии: он не хозяин своих мыслей и слов, он с далеко не завидным постоянством допускает ошибки в речи, он бездумно пользуется целым ворохом идиом прошлого, в том числе идиом мистических, универсальных. Вопреки исследователям «Последнего дня», приходится констатировать следующий факт: вся световая и «речная» символика романа – не более чем обрубленные цитаты, умышленно вкрапленные автором в свой текст для обозначения бессилия главного героя, его неспособности противопоставить своей смерти ничего, кроме своих грез, домыслов и заимствованных откуда-то образов и сюжетов. Большая часть этих домыслов и образов перечеркивается по ходу романа: например, вкладывая в уста ал-ʻАскари признание веры в переселение душ, Нуайме спешит вымарать эту некогда облюбованную[25] им же догадку сценой сна доктора Мусы, предрекающего конец всем участникам «вечных похорон» вселенной.
Молчание ал-ʻАскари, оставляющее открытым не только конец романа, но и его пространные рассуждения о «поиске собственной самости» – это, безусловно, не философское молчание-эпох^, которое в конечном счете служит вечному вопросу Аристотеля о том, «что есть сущее». Молчание бывшего доктора философии – это мудрейший из ответов на ожесточенные споры философов, «канонизированный» христианским (и не только) преданием о божественном ответе Иову и Антонию Великому. «Внимай себе и не подвергай исследованию судеб» – об этом известном с семинарской скамьи афоризме Нуайме вспоминает, проводя своего героя через искушения радостью и испытания смертями незнакомого охотника и раскаявшейся в измене жены (к счастью, смертями мнимыми). В этом изводе «Последний день» является, вне всякого сомнения, апологией бессилия школьной, схоластической философии и человеческого, «телесного» желания перед лицом неизбежности настоящего последнего дня Homo Sapiens, равно как и речью, произнесенной в защиту безмолвной надежды. «Христианской надежды», – добавим мы.
Роман «Последний день» не отвечает на вопросы, но отстаивает правомерность их существования. Кому нужна измена Руʼйа и восемнадцатилетняя болезнь Хишама, который в самый день своего исцеления спешит уйти с Не-Именуемым? В чем ценность одиночества, подаренного Мусе ал-ʻАскари Последним днем? Почему главный оппонент главного героя так и остается безымянным?.. Ответа на эти вопросы у умудренного семьюдесятью годами писателя нет. Взамен однозначных, всегда могущих быть оспоренными более сильным оратором утверждений Нуайме предлагает читателю пережить «умирание», в тихом свете которого любое противоречие имеет свой вес постольку, поскольку оно причастно жизни. Доктор ал-ʻАскари, пришедший в смятение от однозначного полуночного повеления «проститься с Последним днем», обретает покой в «странном», многозначном гностическом сне[26]. Пример неудачливого профессора как бы подсказывает читателю: человек теряет право говорить, когда он слышит и слушает. И, хотя сам ал-ʻАскари так до конца и не научился слышать, он изловчился как можно чаще прислушиваться к Последнему – и в то же время Первому – своему дню, принимать его чужой – и одновременно собственный – бурлеск жизни.
Наверное, именно это обстоятельство никогда не сможет примирить «Последний день» с «Пророком» Джебрана и «Заратустрой» Ницше с одной стороны и с произведениями апологетов антиномий, французских экзистенциалистов – с другой. Муса ал-ʻАскари, при всем его видимом, наносном скепсисе по отношению к внешним атрибутам религиозной традиции, все-таки остается верным Евангелию, которому оставался верен его создатель. Профессор хорошо понимает, что единственное Существо, «имеющее власть» говорить, отлично от его «самости» – «камешка, облепленного снегом». Это Существо-Вседержитель видится им, как и многим другим проповедникам всеединства (в том числе русским), везде и во всем – в природе и супруге, в сыне и в богоподобных глубинах собственной, маленькой, почти плоской души. Но доктор ал-ʻАскари, осмелившийся помолиться Тому, Кого нельзя описать, так и не находит в себе сил заявить о своеобразном «вступлении» в права «наследования» Богу: о «новом Мусе ал-ʻАскари» читателю «Последнего дня» не известно почти ничего. Кроме, правда, того факта, что он действительно может родиться, чтобы каким-то неведомым образом пронести тихий свет сквозь темень чувств и «непросвещенного сердца».
События программного романа Нуайме разворачиваются на тесной площадке двадцати четырех часов. Однако упомянутый выше открытый финал напряженного, порой и вовсе мучительного дня доктора Мусы ал-ʻАскари не дает нам узнать о конце этого дня. Быть может, он, подобно седьмому дню творения, продолжается и сегодня? Вспоминая об этом предположении Августина, Нуайме-богослов не грешит против истины размеренной человеческой жизни. Да и как может быть иначе, если написанное неуклюжим пером неготового к «Новому дню» ал-ʻАскари творение так и не успело раскрыть перед читателем символику имен своих героев? Муса ал-ʻАскари (Моисей-Воин) не одерживает никакой победы, Руʼйа ал-Кавкабиййа (Видение Небесное) не предстает перед глазами влюбленного мужа, Хишам (Щедрость) так и не протягивает руки помощи своему растерянному отцу. Один только Не-Именуемый остается верным своей безымянной полноте, в которой явственно читается основное послание «Последнего дня», учащего внимательного читателя вспоминать о принципиально неразрешимых проблемах. «Роман-трактат», обрушивающийся в своем начале против всякой в корне слабой философии, венчается самым что ни на есть философским призывом: задавать вопросы, на которые в принципе нельзя ответить. Правда так и останется непознанной, но стремление к ее познанию, добрая дерзость и благоговение перед существованием истины отдадут в награду человеку его самого.
Впрочем, недосказанность, вложенная автором в саму грубоватую ткань произведения, оставляет герменевтические «ворота» «Последнего дня» открытыми – если не сказать настежь распахнутыми – перед литературными критиками. «Философия молчания» Нуайме, его первый тщательно проработанный манифест, по-прежнему ждет своего читателя, который, вдохновленный или, напротив, раздраженный бессилием его главного героя, непременно должен продвинуться на несколько шагов вглубь «темного тоннеля» вечной темы жизни и смерти, пугая черноту, окутавшую первый и последний дом Мусы ал-ʻАскари вложенным в руку ливанским классиком бумажным фонариком. К счастью, этот путь по наскоро набросанной «реке времен» теперь может проделать самостоятельно и русский читатель, оставляемый нами наедине с прямой речью «русского араба» Михаила Нуайме.
Ф.О. Нофал
Август 2017 г., Одесса.
Последний день
Час первый
– Встань и простись с Последним