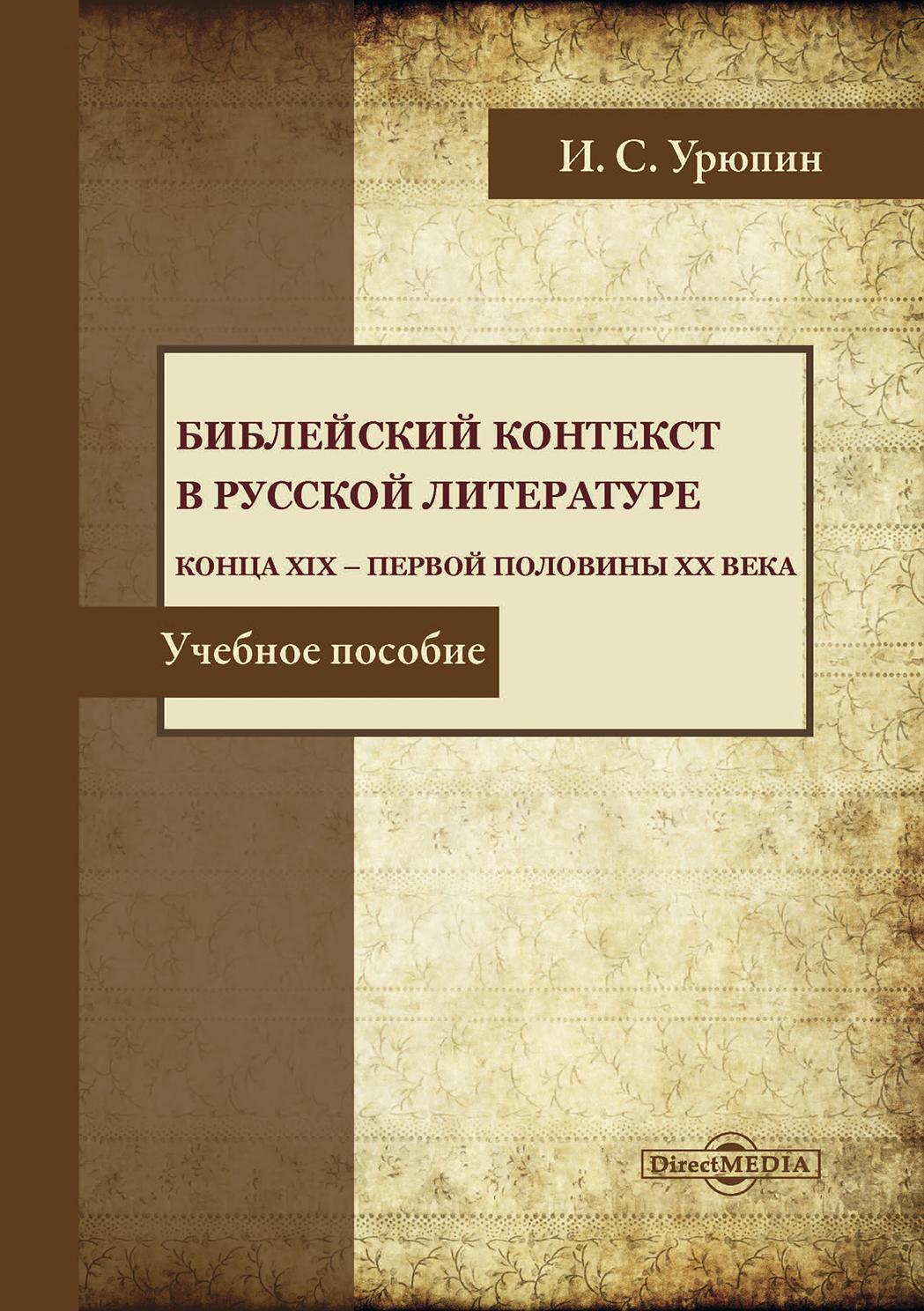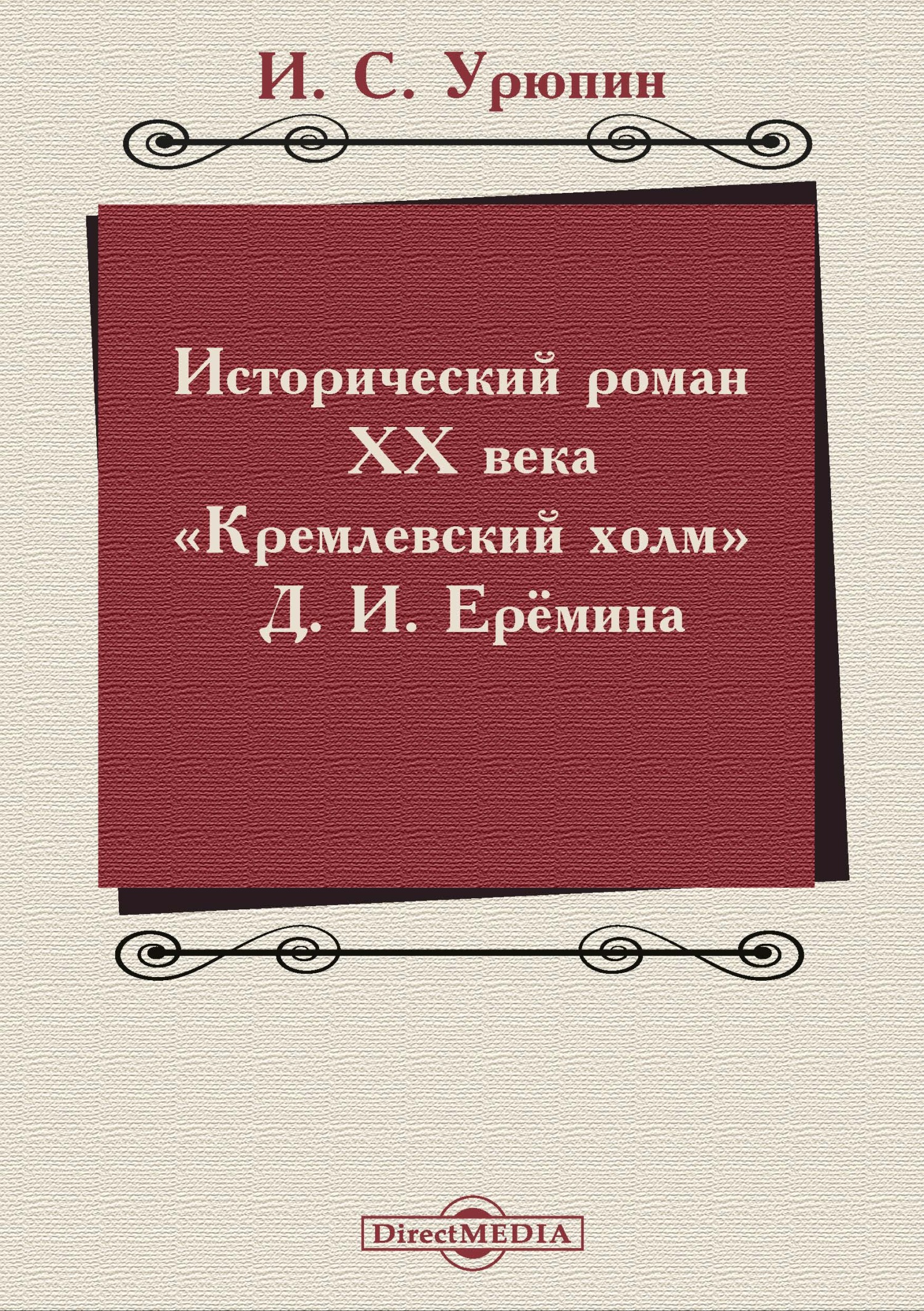чувство позволяет человеку «впитать в свою душу все древнее и новое […], вместит все это в одну душу, в одно чувство». Это — «счастье, какого не знал до сих пор человек, счастье бога, полного сил и любви, полного слез и смеха, бога, который словно вечернее солнце дарит непрерывно из своей неисчерпаемой сокровищницы и, бросая золото в море, до тех пор, пока и беднейший рыбак не гребет золотыми веслами!» [Там же: 366–367]. Ницше называет это чувство «человечность» [Там же: 367], а Луначарский — «солидарность» [Там же: 364], но оба говорят о «вечном миге» такой полноты, что совмещает вечность и кратковременность человека в экстазе слияния со всем и всеми — бывшими и будущими, еще не существующими людьми, как и со всем, что было и будет. И, подобно «божественному человеку» будущего, предтечами которого предположительно являются и Ницше, и сам автор книги «Религия и социализм» Луначарский, также совместит в своей памяти прошлое, настоящее и будущее и, как все предтечи грядущего, вкусит вечной памяти. А сохраненное памятью всегда содержит потенциал нового становления: наука беспрестанно развивается и, быть может, настанет день, когда умершего человека можно будет «восстановить» по любому оставшемуся от него следу. Ведь память в монистическом Новом мире — вид материальной энергии и поэтому содержит вечные, неразрушимые следы прошлого[13]. Таким образом, «стоическое» понимание смертности («мой подвиг / труд / послужил светлому будущему, и я вполне удовлетворен этим и умру счастливым») почти всегда содержало и надежду на то, что пусть не скоро, но когда-нибудь бессмертие станет реальным для всех, кто посвятил свои мысли и труд Новому миру
Следы труда и творчества
Помимо чувства солидарности с предками и благодарно вспоминающими героизм и жертвенность прежних поколений потомками, существовали и иные варианты «утешения», может быть, даже потенциального бессмертия, служившие альтернативой «лопуху». Ключ к этой альтернативе — пушкинское «Нет, весь я не умру», так как «душа в заветной лире <…> прах переживет…». Пусть не всякому дано написать бессмертные стихи, зато каждый может оставить после себя следы плодотворной и полезной деятельности, следы, которые, быть может, будут разысканы и использованы для «восстановления». Так, авторы романов о первых пятилетках нередко говорят о возможности воскрешения былого на основе найденных материальных следов труда тех, кого уже нет. Например, в романе М. С. Шагинян «Гидроцентраль» (1930) обаятельный рыжеволосый герой восклицает: «Бессмертие — это всеобъемлющая память, отложи себя в мире, отработай честно, до предела, и это не может исчезнуть (курсив мой. — А. М.-Д.и память человечества навеки тебя удержит, — если не сразу, то постепенно, придет к тебе. Ведь это факт: миллионы лет прошли, а мы постепенно восстанавливаем даже работу моллюсков, мы историю земли вспомнили, ихтиозавра вспомнили. Неужели работу человека не воскресит память (курсив мой. — А. М.-Д.Д Ведь она ж в материи отложится, эта работа» [Шагинян 1979: 91–92].
Хотя положительный герой не говорит о личном бессмертии и даже считает своим долгом опровергать эту старомодную мысль, по крайней мере в ее трансцендентном понимании, его представления о реконструкции прошлого с помощью следов трудовой деятельности, по-видимому, допускают своего рода воскрешение и самого работника: тот каким-то образом существует в материальных следах своей работы. Ихтиозавр с его «работой» в приведенной выше цитате кажется более или менее уместным сравнением, но, хотя в данном контексте герой не говорит о реконструкции отдельных ихтиозавров, с реконструкцией людей все может быть иначе.
Человек изобрел и шаг за шагом усовершенствовал систематический труд, который делал его все в большей степени человеком. Таким образом, человек и его труд связаны настолько тесно, что, может быть, частично трансформируются друг в друга. Трудовая деятельность человека, возможно, соответствует тому, что в традиционном религиозном понимании именуется «душой»; ведь многие люди вкладывают в свой труд (или творчество) буквально всю душу. Человек Нового мира, естественно, не получает душу от выдуманного Бога, а создает ее сам, реализуя свои стремления в творческом труде для себя и для всего человечества, активно преобразуя материю и одновременно делаясь частью ее неиссякаемых разновидностей энергии и стихийных сил. Поэтому вполне вероятно, что труд человека, то есть его духовно-материальный завет — «душа», — может сохраняться в материи, в свое время отыскаться и послужить воскрешению. Сопоставляя традиционное кладбище, где «пыльной казалась и память» [Шагинян 1979: 217], и строительную площадку, на которой «горит» стихия преобразующего труда, Шагинян показывает, что от смерти избавляют не церковные ритуалы, а техника и промышленность, а также иные формы творчества. Они не только оставляют более долговечные и заметные материальные следы, чем кладбище, неспособное одержать верх над «пыльным» забвением, но и дают способы и средства для оживления людей прошлого. В конце концов, и люди — те же «двигатели», которые легко ломаются и которых поэтому надо более умело конструировать и лучше восстанавливать с помощью могущественной техники. По крайней мере, так рассуждает один неизлечимо больной персонаж этого же романа [Там же: 246]; исходя из подобной логики, он находит исцеление не в рецептах врача и, конечно же, не в церковных обрядах, а в еще более активном участии в строительстве гидроцентрали. Своей работой он может быть полезным до конца. Интуитивно он знает, что новый человек, участник великого дела и работник, совершенствующий технику, действует в свою пользу, так как работает для своего же потенциального бессмертия. Научные технологии будущего помогут восстановить «мотор», который приводил в движение его тело до того, как смерть обратила его в прах.
Вот почему так важно оставить после себя долговечные плоды своих трудов. Они аккумулируют частички жизненной энергии умершего, оставшиеся в материи, сохраняя его душу-труд в ожидании «толчка», который возбудил бы организм к новому действию. Борьба за торжество революции, новая научная теория, открытие нового источника энергии, идея, объясняющая старые загадки природы, гениальное стихотворение, улучшение какого-нибудь механизма, любой продукт труда и мысли (она ведь тоже труд) — все это не только вызывает воспоминания об умершем человеке, но и дает материал для его воссоздания. Возможно, Шагинян к тому времени, когда писала свой роман, не забыла свое прежнее (или продолжавшееся?) увлечение Федоровым — в молодости она принадлежала к кружку, где культивировались идеи философа [Hagemeister 1989:196-97]. Теории философа бессмертия повлияли на многих советских интеллигентов — так, возможно, под воздействием Федорова советский историк Н. А. Рожков (1868–1927) предполагал, что «даже фотография умершего человека или строчки письма его рукой даст достаточно материала для реконструкции его уникального личного состава электронов», тем обеспечивая его воскрешение [Kline 1968: 165]. И у него было