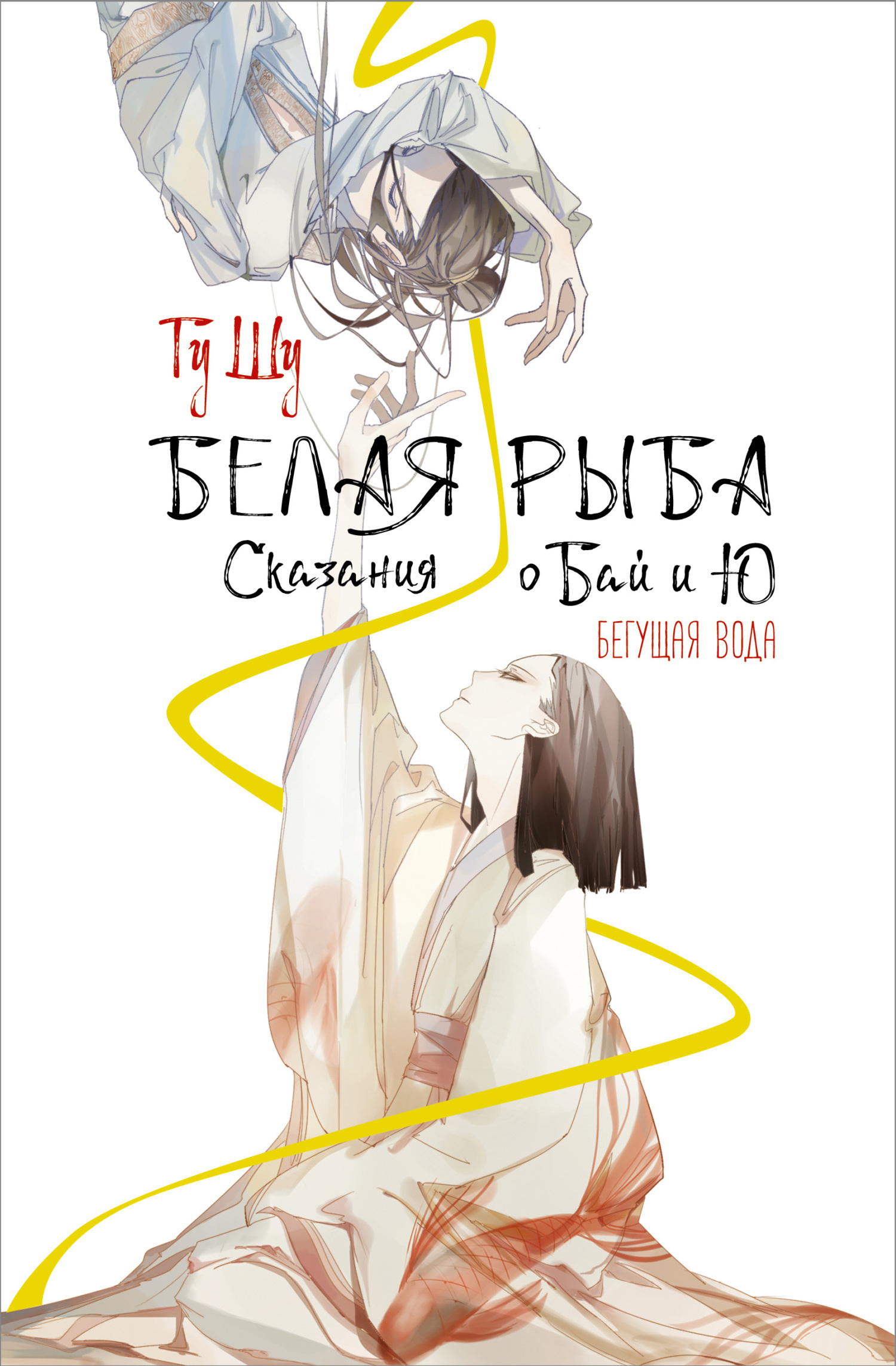тёплый, умытый талой водой, то сухой, колючий, пропахший печным дымом. Всё же приходит месяц ручейник, ломает лёд на реке, гремит, звенит. Зима бьётся, исходит последней пеной позёмок — и умирает. Стаивает белая снежная шкура, проступают голые рёбра мощённых деревом дорог — грязная, тоскливая смерть, но без этой жертвы не будет новой жизни, молодой, зелёной.
Приходит цветень, и Радим, как всегда в эту пору, держит путь к Перловке. Волк не может сидеть, кружится в клетке, шумя цепью. Даже привычная к нему лошадёнка косится, пофыркивая.
Жаворонки поют над полем, поют, тревожат…
— Ну! — покрикивает Радим. — Сядь-ко, угомонись! Скоро уж и воля твоя настанет. Да ты, дурень, как бы не зря радовался. Беда тебе всюду, такому-то. Со мною хоть жив…
Волк не слушает. Просунув нос за частые прутья, дышит разнотравьем. Скоро уж пойдёт своими ногами, распрощается с клеткой и цепью. Первым делом к родному дому, к мамке. Что она скажет, мамка? Должно, обнимет, заплачет…
Привычную боль он ждал с нетерпением и принял с радостью. Рассмеялся до слёз, ощупывая руки, лицо, плечи. Закричал, не в силах ждать:
— Радим!.. Отопри меня, отопри!
Пришёл Радим со свёртком одежды, неторопливый до боли. Сказал лениво:
— Ну, ну! Куда спешишь? Того гляди, без портов убежишь. Что ж, а благодарить меня за доброту, я вижу, не торопишься…
— Век тебе благодарен буду! — выдохнул пленник. — Доброты твоей не забуду!
Он поклонился, не вставая с колен — как встанешь в тесной клетке? — и потянулся целовать сапог сквозь решётку. Приказал бы Радим языком вычистить подмётки, он бы вычистил. Он бы всё… Воля долгожданная, неужто пришла?
— Ну! — усмехнулся Радим, возясь с замком непослушными пальцами. — На вот пока, натяни рубаху…
Завид принял её, дрожа, первую рубаху за столько-то лет. Смял, не веря, прижал к груди, бормоча сквозь счастливые слёзы:
— Век благодарен буду… Я для тебя всё, что хочешь… На старости не покину…
— Гляди ж, — сказал Радим. — Да одевайся, чего тянешь!
Завид нырнул в ворот, и что-то изнутри оцарапало шею. Вмиг охваченный страхом, он понял то, что должен бы понять раньше: рубаха пахла дурманом и ложью. И голова знакомо кружилась, и Радим цепко глядел, возясь в замке только для вида…
— Солгал! — успел выкрикнуть Завид, заголосил волком, бросаясь на прутья. — Солгал…
— Ох ты, — удивлённо сказал Радим, отступая, — да как же это? Видно, травинка где пристала. Ну, знать, судьба твоя такая. Да ты не думаешь ли, что я нарочно?
Он неласково поглядел на волка, что пытался выбраться из рубахи. Ещё год она ему не пригодится.
— Ну, я свою часть уговора выполнил честь по чести, а ты так-то? У-у, скотина неблагодарная! Я ему рубаху, я ему даже и сапоги… Я, что ли, виновен, что ты шерстью обрастаешь от всякого зелья? Ну, посиди, подумай, совесть свою поищи — может, отыщешь!
Шумно закрылась дверь. Ушёл хозяин, надолго оставил волка одного.
Волку известна всякая боль, но боль от разбитых надежд всего хуже.
Глава 2
Весна осыпалась увядшим цветом, короткая, горькая. Лето прошло в трудах, отшумело колосьями, дозрело жёлтым яблоком, да и скатилось с ветки.
Нынче в Косых Стежках шумно и весело. Люди из окрестных деревень сходятся, съезжаются на торг. Поскрипывают тележные колёса, летят голоса и смех, наигрывает гусляр.
Солнце глядит отовсюду. Чистым тёплым золотом дрожат берёзы, их лист ещё не опадает, предвещая поздний снег. Ветер чешет рыжие гривы клёнов, треплет хвосты крепких спокойных лошадок, летит над скошенным полем. Негде больше прятаться полевику и его детям, да и незачем, пусть себе спят в последнем снопе. Дальний лес ещё зелёный, лишь кое-где ржавчина старых дубов проступает меж елей и сосен, да алеет одинокая рябинка, густо навесив на себя сразу все бусы, какие нашла. А небо над миром синее-синее, ни облачка. Добрый день.
Бродит народ, шумит, торгуется. Разложены яблоки, ягоды, всякие соленья, и миски деревянные, и миски глиняные. Тут же кадки и горшки, куда будто солнце пролилось и застыло, густое, сладко пахнущее мёдом. Бьёт хвостами рыба, кудахчут куры, разложены холсты, в мешках белеет соль, и всяк нахваливает свой товар.
— А вот кому масло, маслице льняное!
— Лесной медок так и просится в роток! Орехи калёные, яблоки мочёные!
— Яблочки, свежи яблочки! Золотые, наливные, молодильные!
Завид растянулся в клетке, щуря глаза на пёструю суету и водя ушами. Скоро и его выведут, заставят веселить народ. Пока что Радим бродил вокруг, поигрывал, оставив клетку на телеге, в стороне, чтобы не смущать чужих коней волчьим духом. Люди ходили мимо, а которые полюбопытнее, глазели, но долго не задерживались.
Солнце пригревало, по-осеннему тёплое. Волк жмурился-жмурился, да и закрыл глаза, задремал.
Бок пронзило болью, и он вскочил, щёлкнув зубами. От клетки отпрыгнул мальчишка-нахалёнок — рот раскрыт, в глазах испуг, в руке палка. За спиной ещё двое науськивают:
— Поддай ему, Божко, поддай!
Волк зарычал, взглядом ища хозяина. Куда там! Радим сюда не глядел, отошёл выпить квасу. А и обернулся бы, ничего не увидал, совсем его теперь подводили глаза.
А мальчишка, осмелев, уже подобрался опять — сперва ударил по прутьям, пугая, а после, вцепившись в тележный борт, потянулся, чтобы ткнуть. Добро бы один, а то ведь и дружки его пошли обходить телегу, крадучись.
Волк завертелся, рыча. Наглецы только рассмеялись, довольные забавой. Пока отгонял одного, палка ударила по задней лапе, обернулся туда, гремя цепью — ткнули в бок. Не убьют, не искалечат, а всё ж неприятно.
— Что ж вы трое-то на одного? — зазвенел девичий голос. — Смелые какие!
— Тебя, девку, не спросили! — зло ответили ей.
— Волков бить надобно! У нас такой овцу уволок!
— Такой, да ведь не этот! Он же в клетке, да на цепи, да ручной…
— Молчи, девка-дура! Ишь, поучать удумала! Ступай-ка отсюда подобру-поздорову, не порти забаву!
Девка была — отроковица, вчерашнее дитя, на полголовы ниже любого из этих троих. Завид, наученный Радимом, первым делом подметил кожаные башмачки и рубаху из тонкого белого полотна. Перед такой девкой можно и на задних лапах поплясать, без награды обыкновенно не останешься. Сама крепенькая, в кулачке горсть калёных орехов — пальцами щёлкает. Коса тёмная, и глаза тёмные, как те орехи.
— Вы лучше сами ступайте, — велела она, сощурясь, руки в бока упирая. — А не то…
— Не то тятьке поплачешься? «Охти, тятенька-а, изобидели»…
Орехи полетели под ноги. Девка приложила насмешника кулаком в лицо, хорошо, крепко. Тот отскочил, провёл под носом, поглядел на ладонь.
— Ну, — процедил, — пожалеешь!
Против троих она