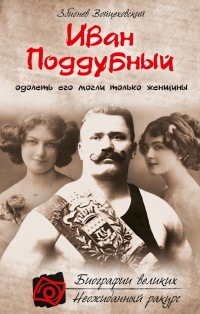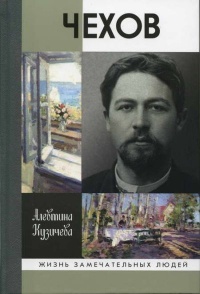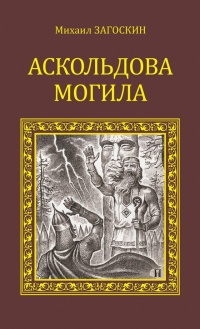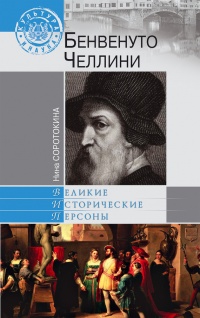И цветы, и шмели, и трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной… Срок настанет — господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я все — вспомню только вот эти Полевые пути меж колосьев и трав — И от сладостных слез не успею ответить, К милосердным коленам припав.
Еще кое-что из дневника Буниных.
20 сент./З окт.22 г. Шато Нуаре, Амбуаз.
«…В Берлине опять неистовство перед „Художественным театром“. И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартарары, — нам и горюшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять „На дне“ и „Вишневый сад“. И никому-то даже в голову не приходит, что этот „Сад“ самое плохое произведение Чехова, олеография, а „На дне“ — верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки, и что играть вообще теперь Горького, если бы он был даже семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в политическом смысле. А как не стыдно публике?
9/22 окт.
…В газетах пишут: „От холода и голода в России — паралич воли, вялость, уныние, навязчивые идеи, навязчивый страх умереть с голоду, быть убитым, ограбленным, распад высших чувств, животный эгоизм, мания запасаться, прятать и т. д.“. Тот, кто называется „поэт“, должен быть чувствуем, как человек, редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны излияния души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки…
10/23 окт.
День моего рождения. 52. И уже не особенно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился. День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове — щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив крылышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по нашему, по помещичьи…
14 ноября, вторник.
…Вчера были в Петербургском землячестве. Народу было много, теснота, бестолковость… 3. Н. была очень интересна. Прочла три стихотворения. В одном месте ошиблась, сделала вид, что смутилась. Зато Д. С. говорил свободно, слушать было приятно, хотя, как всегда, мысль одна очень верная, а рядом парадокс. Время от времени раздавалось: „довольно!“ — это 3. Н. вмешивалась, вероятно, на правах жены. Тогда публика начинала протестовать и просить Д. С. продолжать. Бальмонт сидел со злым лицом. Прочел трое стихов, длинных, однообразных и скучных… Сказал слово и Куприн. Просто, симпатично, тепло. Словом, каждый остался верен себе: Гиппиус в стихах еще раз возвестила, что она пророчица. Мережковский сыпал парадоксами и тоже ввернул, что он пророк. Бальмонт истекал рифмами. А „Папочка“ (Куприн) кротко призывал всех к любви.
20 ноября, понедельник.
…Зашел Куприн. Можно венчаться в пятницу. Говеть не нужно. Это меня немного огорчило. И даже стало жутко, точно Бог еще не хочет допустить меня до причастия… Уговаривала пригласить певчих, но Ян ни за что: „И так стыдно“.
11/24 ноября, пятница.
…Сегодня мы венчались. Полутемный пустой храм, редкие, тонкие восковые свечи, красные на цепочках лампады… весь чин венчания, красота слов, наконец, пение шаферов (певчих не было) вместе со священником и псаломщиком… чувствовала, что совершается таинство… Было лишь грустно, что все близкие далеко. По окончании венчания все были растроганы, взволнованы и… Вся служба напоминала нечто древнее, точно все происходило в катакомбах… Из церкви поехали домой… Меню: семга, селедка, ревельские кильки, домашняя водка, жареные почки и курица с картофелем, 2 бутылки вина, мандарины, чай с грушевым вареньем, которое превратилось почти в карамель. Ал. Ив. (Куприн. — М. Р.) ласково упрекал Яна, что он мало приготовил водки…
6 декабря.
…Письмо от Шмелева, которое трудно читать без слез:
„Дорогой Иван Алексеевич, после долгих хлопот и колебаний, — ибо без определенных целей, как пушинка в ветре, проходим мы с женою жизнь, — пристали мы в Берлине 13-го (н. ст.) ноября. Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где ни быть — все равно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Патагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно — колом или поленом. 1/4 остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся… Но это невероятно… Всего не напишешь… осталось во мне живое нечто — наша литература, и в ней — Вы, дорогой, теперь только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и дает толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы…
Внутреннее мое говорит, что недуг точит и точит, но Россия страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву. Думать не хочется. Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают… жадное хайло — новую буржуазию. „Нэп“ жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза „товарищам“ и соблазняет. Зреет язва, пока еще не закрытая. А что будет — не скажет никто. Литература — случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лица, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного. Будто выжжено, вытравлено все в жизни, и ей не у чего обвиться, привиться…“