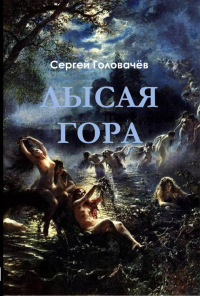Ночь после похорон Петруши была неспокойной для Бориса: несколько раз он просыпался, вновь ложился, но мысли – о, нет ничего ужаснее мыслей! – не давали ему уснуть. Он пытался что-то сказать о Петруше, – сам, про себя. Ему казалось, что сказанное на поминках Федькой-секретарем (а только Федька и произнес там короткую речь о том, какой хороший труженик был Петруша, безотказный) – было до обидного коротко. Какая длинная у Петруши была жизнь, а выходит, что сказать о нем вроде бы и нечего. Воевал, а вернувшись с кровавой войны, работал в колхозе всю жизнь – пахал землю. Был человек. Ушел. Но то уже хорошо, что есть у него могилка. На нее придут в Девятое родственники, вспомнят Петрушу.
…После того как опустили в песчаную яму гроб Петруши и зарыли землей, Манефа повела Бориса по кладбищу, обсказывала, кто где лежит. У всех есть могилки. «Нет только могилок нашего батюшки с матушкой», – говорила Манефа, смахивая слезу. Они вообще не знают, где они, эти могилки, в каком краю.
Когда же они возвращались с кладбища по улице, на которой стояла школа-интернат, Манефа обронила, что нет теперь и школы, в которой они учились: тут теперь детдом для умственно отсталых детей. Ничего нет. Никого нет. Нет. Нет.
И он всю ночь во сне искал то, чего нет, но чего он так желал найти! Снилось ему, будто ранним утром выходит он из избы и в поисках неизвестно чего бродит полем, лугом, телетником. Стоит у завора в поскотину, глядя то на старые островерхие елухи, уткнувшиеся в небесный свод, то на коровьи тропки, уходящие в лес. И всюду, где бродил он, отыскивая неизвестно чего, голубые волны тумана катились за ним. И казалось ему, что не он ходит по земле росистой, а эти голубые волны несут его. И он не чует ног. И будто и этот луг, наполненный чудным запахом скошенной и уже начавшей вянуть травы, и поле, засеянное ячменем, и телетник, где резвится табун молодых лошадей, и эта поскотина с коровьими тропами, и вся деревня, как в детской колыбели, качается на этих волнах в лучах восходящего солнца. И он не может понять, где он, на земле или на небесах, идет или плывет среди этого голубого тумана, и не знает, чего ищет, и не может найти, что хотел бы найти…
XIX
Осиповы собирались пожить в Заднегорье несколько дней (с недельку), но, заехав к бабушке Дарье, остались здесь до двадцатых чисел августа.
Борис с сыновьями привел в порядок сначала одну избу (класс), затем вторую, словно готовил школу к новому учебному году и не желал признавать бессмысленность своей покрасочно-побелочной работы: дом-то принадлежал сельсовету.
Дарья им не препятствовала, напротив, ей приятно было видеть, с каким старанием они белят печи и красят полы.
После ремонта Борис объявил в деревне сенокос. И сам, показывая добрый пример родственникам-жителям, первым принялся за работу: отбил старые бабушкины косы под ироничные взгляды жены и сыновей, удивлявшихся, что отец умеет делать такую мудреную работу. А сделав ее, встал отец с чурки и, расправив плечи, от самого крыльца пошел покосом через всю деревню. И покорно валилась к ногам его высокая трава, пырей, крапива и лопухи. И «вжикала» коса, пела свою забытую сенокосную песню. И потел, кряхтел и чертыхался косарь, ибо не так-то просто было прорубать покосы в высокой траве вперемежку с сухой, прошлогодней. Уставал косарь. Быстро тупилась коса. Борис часто останавливался. Уперев косье в землю и крепко взяв косу за пятку левой рукой, – бруском, что держал в правой, долго водил по лезвию. Потом щупал пальцем, как навострилось, хватается ли острие за палец, и, довольный, снова валил высокую траву.
Когда руки не понесли больше, Борис стал учить владеть стойкой и сыновей, изъявивших желание покосить. И рад был, что у них получалось.
Они бойко махали косой – почувствовали удовольствие от физической работы.
Борис иногда останавливал их, указывая на нескошенную траву.
– Вершки сшибаете! Это кому оставили? Пятку[55] к земле! – И они старались выполнять строгие наставления отца.
Татьяне Владимировне, пожелавшей косить, Борис изладил горбушу (стойка показалась ей тяжелой).
Освоив эту нехитрую науку, она с полчаса косила, согнувшись в три погибели.
– А ведь мы, Танюшка, бывало, целый день так звитали, – говорила Дарья, глядя, как гостья ее тяжело опустилась на травяную кочку. – В партии баб некогда было шибко-то рассиживать…
И Танюшка призналась, что, пожалуй, день такой работы она бы не выдержала.
Косить мешала не только прошлогодняя трава, но и молодые стебли ив, березок, черемух. Косари ссекали их косой, а те, что были покрупнее, Борис срубал топором. И только у окладников их бывшего, полуразрушенного теперь дома он оставил березку, что росла из кучи битого кирпича. И долго сидел у нее, глядя, как сыновья, соревнуясь друг с другом, докашивают заросли крапивы у Петрушиной избы. После такой жаркой работы все бросились в Дарьин дом – отдыхать в его прохладе. Только Борис ушел с пожни не сразу. Глаз не мог привыкнуть к той картине, что открылась теперь. Пока старые окладники, полуразрушенные избы, кучи мусора и битого кирпича скрывала высокая трава, крапива, лопухи, не столь бросалась в глаза разруха, царившая здесь. Земля словно прикрыла деяния людские своим травяным покрывалом. Теперь же, когда трава лежала ровными покосами, Борис с болью смотрел на отчий дом с провалившейся крышей. Дом уже давно не принадлежал им. Он давно уже не принадлежал никому. Но Борис чувствовал вину уже в том, что открыл этот позор солнцу, миру. Это он, взяв косу в руки и повалив бурьян, выставил людское строение в особенно унизительном, постыдном виде.
Дни стояли жаркие. В два дня трава подсохла. Осиповы повернули ее к солнцу, поворошили.
После полудня Борис оботкнулся в центре деревни – на расстоянии метра друг от друга воткнул в землю длинные заостренные стожары, между ними наложил веток, заломив их вовнутрь стожья, чтобы не мешали при метке. Подготовил подпоры (короткие и длинные).
Алексей с Павлом на вилах подносили ему сено из валов, тянувшихся через всю деревню, а Татьяна Владимировна подгребала за ними остатки сена.
Борис поторапливал молодежь, видя, как из-за далекого горизонта выходят нездоровые морока, бранился на их нерасторопность не понарошку, как будто сено, которое они мечут сейчас в стожок из четырех промежков, непременно кому-то пригодится и его нельзя замочить.
– Не упетай у меня ребят-то, – говорила довольная Дарья, опираясь на бадожок и обходя зарод, который Борис любовно очесывал граблями.
После того как он подпер каждый промежек подпорами, Дарья, чуть отойдя поодаль, указывала ему, как вершить – где и какие ямки остались еще на вершине зарода, куда еще можно положить последние хохлаки сена.
– Ну вот и слава Богу. Заулыбалась у нас деревня-то. Все равно что рассветало…
Деревня и правда словно помолодела. Заднегорский кедр, видный теперь во всю свою высоту, весело шевелил тяжелыми ветками, глядя на школу-избу, на дом Петруши.