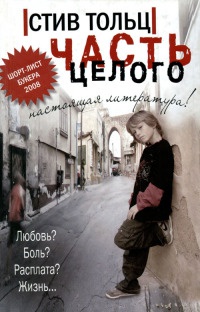Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53
Через полчаса в дверь заглянул полусонный охранник и спросил, не принести ли еще воды. Получив вежливый отказ, он вынес оба таза в коридор и вернулся за лампой, но Авельянеда попросил оставить ее до утра. Хотя была уже глубокая ночь, спать ему не хотелось, а с лампой в камере было как–то повеселее. Охранник замялся, предвкушая выговор от начальства, но тряхнул головой и вышел, пожелав генералу спокойной ночи. Керосина в лампе оставалось еще больше половины.
Обсохнув, Авельянеда глянул на серые тряпки, выданные ему при поступлении в тюрьму, но надевать их снова не пожелал и протянул руку к бумажному чехлу.
Мундир сидел на нем хорошо. Прежде Авельянеда был несколько более полноват, но за четверть столетия ткань, как и его собственная плоть, успела усохнуть, так что теперь они удивительно ладно подходили друг к другу. От мундира пахло временем. Не старой материей и даже не нафталином, а именно временем, ибо оно, накапливаясь в вещах, тоже приобретает свой запах. Впрочем, свойство вещей накапливать не только обычные ароматы с неизбежностью означало, что от мундира пахло также и ненавистью, поскольку за годы пребывания в музее он впитал ее в себя предостаточно. А если так, то лучшей одежды на завтра нельзя было и представить.
Застегнув китель, Авельянеда прошелся по камере и вдруг увидел, что дверь не заперта. Выходя, охранник толкнул ее ногой, но закрыть на ключ, вероятно, забыл, а может, не допускал и мысли о том, что престарелый диктатор попробует сбежать. В узкую щель проникала полоска лунного света. Не зная, для чего, собственно, это делает, Авельянеда приоткрыл дверь и выглянул в коридор. В окно светила пышнотелая, бледнолицая, забранная решеткой луна. Телеграфный гул, которым была пронизана тюремная тишина, исходил от лампы дневного света, совсем слабо, в четверть накала, горевшей в дальнем конце коридора. В нескольких шагах от двери сидел сморенный сном одинокий охранник. Голова его свесилась на грудь, правая рука с тонкими девичьими пальцами сползла на край табурета. Рядом стоял прислоненный к стене карабин с тлеющей в лунном свете граненой мушкой. Судя по открытому рту и звездочке слюны на припухлой губе, парень спал действительно крепко. Было слышно, как в соседней камере простонал во сне один из республиканцев. Авельянеда посмотрел на карабин, усмехнулся намеку судьбы, которая давала ему возможность окончить все быстро и без свидетелей, и прикрыл дверь. Насвистывая мотив имперского военного марша, он еще немного прошелся по камере, повесил на шею медаль Барселонских игр, расправил на груди шелковую ленту и сел на койку — дожидаться утра.
* * *
Был уже десятый час (где–то вдали, на проспекте, с протяжным дребезгом пробили башенные часы), когда с Авельянедой пришли попрощаться охранники. Они ждали его в коридоре, смущенно переминаясь с ноги на ногу и вертя в руках форменные фуражки — полтора десятка крепких, угловатых парней, в которых трудно было заподозрить подобную сентиментальность. Последним стоял здоровяк–повар с красными, явно заплаканными глазами, который все время поводил и шмыгал носом, пытаясь, очевидно, удержаться от новых слез. Авельянеда всем пожал руку, а повару, слегка привстав на цыпочки, шепнул, что тот первоклассно готовит чурро, вызвав на его сдобном лице стыдливое цветение благодарности. Исполнив этот скромный обряд, охранники, однако, не разошлись. С глуповатым видом рассматривая свои пожатые ладони, они продолжали стоять, и Авельянеда грешным делом подумал, что они дожидаются его ухода, чтобы разобрать обстановку его камеры на сувениры.
Через минуту на лестнице послышались шаги. Из темной пасти смежного коридора, мягко припечатывая гранит, явились конвоиры — два высоких подтянутых фалангиста, с блестящими портупеями через плечо и тугими скрипучими кобурами, набрякшими властью и затаенной угрозой. Авельянеда еще издали узнал в них своих старых знакомых — тех напыщенных молокососов, которые в начале прошлой недели доставили его к Санчесу. За прошедшие дни их облик несколько изменился: первый, светлокожий брюнет с лицом басконского типа, был коротко, по–военному, острижен, второй, загорелый блондин, сиял свежей завивкой, от которой за дюжину шагов разносился острый запах парикмахерской. В остальном они были все так же на удивление симметричны, все так же спаяны одной общей искрой фанатизма, а с ним — и соответствующей манеры держать себя. Надменно оглядев охранников, фалангисты поприветствовали Авельянеду и пригласили его следовать за ними.
После долгого, утомительного и исключительно бестолкового блуждания по лабиринту коридоров (то и дело, чертыхаясь, конвоиры заводили его не туда; по меньшей мере трижды миновали одну и ту же лестничную площадку), спустились во двор, обращенный в сторону бульвара Империаль. Выглядел двор несколько одичало: толстые каменные плиты пола во время битвы за город были сняты и использованы для строительства укреплений на берегу Мансанареса, сквозь открытую землю пробивалась трава. Повсюду валялись железки, куски металлических труб, вдоль забора высились штабеля ящиков из–под снарядов, рядом полулежала пехотная пушка без одного колеса — на ее коротком стволе серебрились крупные капли росы. Однако на двор Авельянеда не обратил никакого внимания, потому что у ворот его дожидалась повозка, запряженная тремя ослами. Ее пригнали, должно быть, из какой–нибудь ближайшей деревни — к заднему правому колесу пристал ком свежего коровьего навоза, криво сколоченный борт был засален в том месте, где пассажиры хватаются, чтобы запрыгнуть внутрь. На передке, закусив толстую самокрутку, сидел сутулый возница с заросшим, чуть рябоватым лицом самой грубой крестьянской лепки, в коротких суконных брючонках, чрезвычайно просторной домотканой рубахе и облезлой меховой шапке: как многие пожилые крестьяне, он умудрялся мерзнуть даже в такую сильную жару. Весь его вид выражал угрюмое недовольство — видно, эта обязанность была ему вовсе не по нутру. Где в военное время фалангисты добыли ослов, да еще таких крепких, упитанных, оставалось только догадываться. Авельянеда сразу почувствовал укол понимания — ведь именно таким способом осужденных доставляли к месту казни в годы Империи.
— Передайте вашему начальству, — сказал он конвоирам с усмешкой, — что они далеко пойдут.
Те с удивлением переглянулись, но ничего не ответили. Не давая себе помочь, Авельянеда подошел к повозке и довольно ловко, несмотря на возраст, забрался внутрь. Фалангисты прыгнули следом, устроились на поперечной скамье позади него и дали знак часовому открывать ворота.
Однако перед самым выездом из тюрьмы случился небольшой эпизод, который их несколько задержал. В то мгновение, когда створки ворот плавно подались наружу, на улице послышался нестройный топот множества ног и бряцанье оружия. Присвистнув от неожиданности, часовой посторонился: едва переставляя ноги от усталости, волоча по земле концы окровавленных бинтов, распространяя вокруг ужасающий запах давно немытого тела, во двор вошла вереница пленных и полдюжины фалангистов с русскими автоматами наперевес. Пленных было десятка два — их взяли утром, в Карабанчеле, где до последнего часа, несмотря на отход республиканской армии, продолжалось сопротивление. Не подчинились приказу националисты Фуэнмайора — они остались на своих позициях даже после того, как над столицей вспыхнул коммунистический флаг. Эхо стрельбы в Карабанчеле и было тем шумом, который старики по наивности принимали за отзвук большого сражения. Около месяца националисты удерживали в предместье несколько домов, которые обнесли кирпичной стеной и превратили в настоящую крепость, и сдались только сейчас, когда от их «легиона» почти ничего не осталось. Впереди всех твердой походкой, несмотря на сбитую обувь, шел сам Карлос Фуэнмайор — Авельянеда не раз видел его на страницах газет. С фотографий он глядел матерым воякой, высоким, широкогрудым, с тенью опыта и грубоватой доблести на красивом дворянском лице, а в жизни оказался парнем лет двадцати трех, худощавым, среднего роста, с тонкой шеей, узкими, девичьими плечами и глазами вчерашнего гимназиста. Остальные были и того моложе. Чеканя шаг, Фуэнмайор вел за собой армию сопляков, бо́льшая половина которых недавно закончила школу. В самом хвосте ковылял мальчишка лет четырнадцати. Его левая стопа, чудовищно распухшая, была обмотана куском армейского одеяла, насквозь пропитанным кровью. Мальчишка опирался на суковатую палку, и каждый раз, когда раненая стопа касалась земли, тихонько крякал от боли, но страдал, кажется, не столько от раны, сколько от того, что не может скрыть свои мучения от товарищей. Оставляя на грязных щеках розовые подтеки, по лицу его катились слезы, над которыми посмеивался шедший рядом великовозрастный фалангист.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53