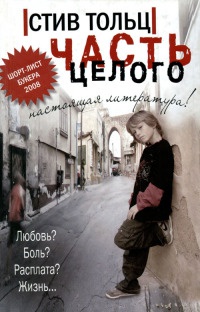Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53
— Расходитесь! Ну! — кричал им с вышки озлобленный часовой, но пришедшие не двигались с места.
Каждый раз, выглядывая за окно, он дивился тому, как быстро меняется их память. Такая же пластичная и податливая, как те цветные кирпичики, из которых современные дети лепили на площадях сласти для своих кукол, она приняла нужную форму, стоило только красным слегка стиснуть ее в своих горячих руках. Именно память, а вовсе не танки и самолеты, была самым грозным оружием из всех, и фалангисты, еще не имея опыта власти, осознали это с первых же дней. Со слов охраны Авельянеда узнал, что посмотреть на него приезжали из окрестных сел и деревень и даже других городов. Селяне продавали кур и гусей — большую ценность по нынешним временам, — чтобы добраться до Мадрида и постоять вот так под стенами тюрьмы, как четверть века назад они уже стояли под стенами Дворца правосудия. Впрочем, одно важное отличие все–таки было. Приходящие стояли молча, не сотрясая воздух, как некогда, проклятиями и свистом, так что если ими и двигала ненависть, то следовало признать, что она весьма эволюционировала с годами.
Мундир доставили в четверг, ближе к закату, когда на покрытой лозунгами стене догорали две косые померанцевые полоски. Все это время он находился в Музее гражданской войны, в шкафу из бронированного стекла, вместе с наградами и личным оружием каудильо. В камеру, широко отворив дверь, вошла целая процессия из охранников: первый, с благоговейным выражением на лице, бережно, как невесту, нес мундир в чехле из плотной оберточной бумаги, второй — картонку с туфлями, третий — синюю бархатную коробочку с наградами. Замыкал шествие офицер, следивший за тем, чтобы все было доставлено в целости и сохранности. Положив вещи на койку, охранники с сожалением, то и дело оглядываясь и наталкиваясь друг на друга, покинули камеру. Тиран, четверть века спустя вновь надевающий свой старый мундир, — это зрелище, вероятно, казалось им в высшей степени историческим. Когда шаги в коридоре стихли, Авельянеда разорвал бумагу.
Из дюжины его мундиров — летных, пехотных, горнострелковых — республиканцы сохранили именно тот, что нужно: в этой форме он воевал в Марокко, в ней же пришел к власти, бросив на Мадрид мятежные африканские полки. На левом рукаве виднелся темный V-образный след от генеральского шеврона, споротого, очевидно, перед самой доставкой — никакие знаки различия, а тем паче офицерского достоинства, преступнику, конечно, не полагались. По той же причине, как и предсказывал Санчес, не могла быть удовлетворена его просьба о военных орденах. Единственной гражданской наградой, которая отыскалась в музее (она и лежала в бархатной коробочке), была золотая медаль Барселонских игр, некогда взятая каудильо в состязаниях по стрельбе из мушкета. Усмехаясь, Авельянеда повертел в руках кружочек металла на слегка выцветшей голубой шелковой ленте. На обратной стороне была оттиснута надпись: «Аугусто Авельянеда — 1 место. Судья Рудолфо Субисаретта». Перед глазами возник бушующий стадион, высокие мишени на белых треногах, стилизованные под испанскую старину, тяжелый мушкет, который он, насвистывая, снаряжал зернистым порохом и свинцом, — воспоминание, явно взятое из чьей–то чужой жизни. Спрятав медаль в коробочку, Авельянеда положил ее поверх кителя и прикрыл бумажным чехлом.
Разумеется, о мундире он просил вовсе не из тщеславия. С его стороны это было бы равносильно желанию внести и свою лепту в тот фарс, который затеяли фалангисты. Соглашаясь на маскарад, он преследовал иную, тайную цель, хорошо понимая, что окружающими его поступок будет истолкован как проявление заурядной (и не слишком похвальной перед лицом смерти) тяги к внешним эффектам. Завтра он хотел бы отправить на Пласа—Майор генерала Аугусто Авельянеду — человека, которым сам он уже давно не являлся и которого мог без всякого сожаления предать в руки палачей. Когда, при каких именно обстоятельствах произошло это разделение, он не знал, да и не стремился к этому знанию, ибо считал дотошный самоанализ никчемным занятием. Поскольку же разделение все–таки произошло, было бы справедливо, чтобы именно генерал платил за те грехи, которые вменяются ему в вину. Однако прежде, чем окончательно умертвить этого славного марокканца, следовало ненадолго вернуть его к жизни, пусть и таким незатейливым способом.
Поздно вечером, когда в сумерках уже окреп оранжевый конус уличного фонаря, в камеру принесли горячей воды. Это сделал молодой охранник, тот самый, который так озадачил Авельянеду, сказав ему «пожалуйста, генерал». Накануне он заглянул и, смущенно улыбаясь, спросил, не угодно ли сеньору помыться. Сеньору было угодно. После ужина его должны были повести в душ, однако из–за перебоев с водоснабжением такая возможность отпала. Стараясь не шуметь, охранник внес в камеру и поставил на стол зажженную керосиновую лампу (свет на этаже к этому времени уже погасили), затем окутанный паром таз с согретой на кухне водой, второй таз, деревянный, кусок мятного мыла и, за неимением полотенца — аккуратно сложенную чистую простыню.
— Зовите, если что понадобится, — сказал он, выходя, с той же смущенной улыбкой. — Я буду рядом.
С лампой в камере стало почти по–домашнему уютно. Ее мягкий абрикосовый свет отсекал от темноты ровно такой кусок, чтобы воображение могло разместить в нем фрагмент любой памятной обстановки, скажем, детской комнаты в Мелилье или спальни в президентском дворце. Старики за стеной, откряхтев, отбушевав, уже улеглись, и на всем этаже стояла ровная, слегка вибрирующая, как телеграфный провод, казенная тишина.
Стоя в деревянном тазу и поливая себя из кружки, Авельянеда мыл свое дряхлое тело, как в незабвенные времена самого раннего детства, когда такой же точно ритуал над ним ежевечерне проводила мать. Вид тела его не обрадовал. Пергаментного цвета кожа с мраморными прожилками, жгутики мышц, своей дряблостью напоминающих студень, отвислый живот — все это было взято из реквизита самой нарочитой, самой утрированной старости, которую сознание — все еще туго натянутая струна — никак не хотело признать своей. Это тело давно просилось на свалку или, что вернее, в руки палачу, но Авельянеда озирал его с невольным уважением, как верой и правдой послуживший предмет. Он был благодарен телу за то, что оно выстояло, что какая–нибудь пружинка в нем не сломалась раньше времени, и что он, Аугусто Авельянеда, отмерил все, что ему полагалось отмерить. Сойди он с дистанции на половине пути, не публика, так сам он счел бы себя проигравшим и, умирая там, на одной из испанских plaza, уносил бы с собою в смерть неизбежное чувство досады, фатальное сожаление о том, что, как и тысячи других, оказался слабее мира. Но сожалеть было не о чем. Прихрамывая, спотыкаясь, он дошагал до финишной черты, а путь, пройденный до конца, следовало признать какой–никакой победой.
Все эти дни его тяготил, принимая различные формы, единый по сути своей вопрос: кем он был? зачем? не напрасно ли прожил свою жизнь? Но Авельянеда гнал его от себя, как уже не этому миру принадлежащий. Он заплатил по счету, и довольно. Бог может порвать долговую расписку. Свой билет на Сириус он заслужил, и завтра не позволит отнять его у себя никакому архангелу, никакому небесному ключарю, ибо иначе все петухи мира запоют, обличая крылатых ханжей. А если нет, он призовет на помощь души черногвардейцев и возьмет заоблачную крепость штурмом. Ведь если верно, что Царство небесное усилием берется, то он, раб божий Аугусто, готов приложить усилия.
Ознакомительная версия. Доступно 11 страниц из 53