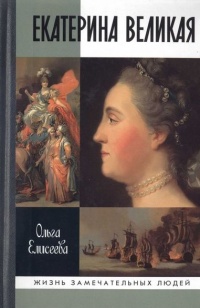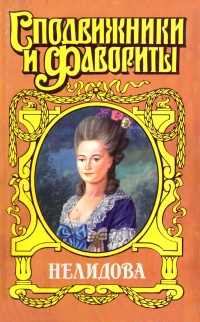Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110
Весной с переездом в Летний дворец произошли дополнительные рокировки в окружении. Оказались удалены камер-юнкеры граф П.А. Дивьер и А.Н. Вильуа, поскольку, как пишет Екатерина, «великий князь и я к ним благоволили». Горькая участь – благоволить к людям, зная, что они на тебя доносят, – ведь других-то все равно нет. Эти были хотя бы учтивы. Пост библиотекаря пришлось оставить и Штелину, который сдал «библиотеку его высочества придворным служителям и подобным людям»299.
«Это было дело рук Чоглоковых, – замечала Екатерина, – которые… следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него»300.
Новые люди – новые отношения. Ни на кого великокняжеская чета не могла положиться. Поступило строжайшее запрещение «доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе». Молодых отгородили непроницаемой стеной от всего мира. Но именно тогда Екатерина поняла, что запретительные меры – самые неэффективные. Обнаружилась масса народу – совершенно не заинтересованного в интригах и не близкого к малому двору, – который находил истинное наслаждение в нарушении запретов. Любимой национальной игрой оказались вовсе не карты, как до того подозревала наша героиня. Власть обожала надзирать и пресекать, а подданные уклоняться и обходить ее приказы. Стоило чему-нибудь случиться, как фрейлина ли, лакей ли, случайный ли гость Чоглоковых спешили оповестить великокняжескую чету о делах внешнего мира. И все это под страхом «высочайшего истязания».
«Отсюда видно, – писала Екатерина, – что значат подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушить. Все окружавшие нас до ближайших родственников Чоглоковых старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чоглоковой, граф Гендриков, и тот часто вскользь давал мне полезные и необходимые сведения»301. Удивительно ли, что Екатерина, так старавшаяся стать русской, переняла эту манеру? Нарушение запретов сделалось для нее и развлечением, и способом жизни. Щекотало нервы.
В декабре 1748 г., когда разворачивалось дело Лестока, крайне опасное для малого двора, братьев Чернышевых выпустили из заключения. Видимо, они не сообщили ничего важного, держали рот на замке, поэтому их все-таки решили, как и предполагалось ранее, отправить поручиками в отдаленные полки. Но пока бывших лакеев только перевели в «Смольный дом», принадлежавший императрице, и оставили под караулом. Андрей вспомнил навыки обращения с Крузе и применил их к часовым. «Старший из троих братьев напаивал иногда своих сторожей и ходил гулять в город к своим приятелям. Однажды моя гардеробная девушка-финка… принесла мне письмо от Андрея Чернышева, в котором он меня просил о разных вещах… Я не знала, куда сунуть это письмо… я не хотела его сжечь, чтобы не забыть того, о чем он меня просил… Уже очень давно мне было запрещено писать даже матери; через эту девушку я купила серебряное перо с чернильницей. Днем письмо было у меня в кармане; раздеваясь, я засовывала его в чулок, за подвязку, и прежде чем ложиться спать, я его оттуда вынимала и клала в рукав; наконец, я… послала ему, чего он желал… и выбрала удобную минуту, чтобы сжечь это письмо»302.
В отношении Чернышева Екатерина повела себя так же, как и в отношении Жуковой. Не оставила своей помощью, хотя очень рисковала. Эта черта – поддерживать тех, кто ей служил и пострадал за нее, – выгодно отличала великую княгиню от мужа, всегда боявшегося сказать императрице слово в защиту своих приближенных. Исчезая из его комнаты, они точно исчезали из жизни, наследник не смел пальцем пошевелить для того, чтобы разузнать об их участи. Это давало повод упрекать его в неблагодарности, что не преминул сделать Финкенштейн: «Неблагодарность, коей он отплатил старинным своим слугам, и в особенности графу Брюммеру, мало делает чести его характеру»303.
Положим, Брюмер особой благодарности не заслуживал. Однако были и другие. Петр о них помнил: в 1754 г., по случаю рождения Павла, когда Елизавета благоволила молодым, упросил вернуть Штелина. А в 1762 г. сам вернул Румберга. Но это единицы, а пострадавших в окружении насчитывались десятки – старые голштинцы, егеря, лакеи, камер-юнкеры…
Далеко не всем могла помочь и Екатерина, однако она шла на риск, а Петр уклонялся. Он начинал бушевать и перегорал, как порох. Великая княгиня молчала, выказывала покорность и из-под руки действовала, как умела.
Зимой 1748 г. возобновилась ее переписка с матерью. В Петербург прибыл мальтийский кавалер граф Сакромозо. «Он был нам представлен, – вспоминала Екатерина. – Целуя мою руку, Сакромозо сунул мне в руку очень маленькую записку и сказал очень тихо: “это от вашей матери”. Я почувствовала, что остолбенела от страху… Однако я взяла записку и сунула ее в перчатку».
Екатерине запрещалось поддерживать корреспонденцию «под предлогом, что русской великой княгине не подобает писать никаких других писем, кроме тех, которые составлялись в коллегии Иностранных дел». Под ними Екатерина могла только ставить свою подпись. Однажды она отправила подчиненному Бестужева А.В. Олсуфьеву «несколько строк», которые просила включить в письмо матери. Из этого вышел скандал, чиновнику «чуть не вменили в преступление» уступчивость по отношению к Екатерине, а ей самой выговорили: коллегия-де лучше знает, как составлять эпистолы.
Сакромозо шепнул девушке, что ждет ответа «через одного итальянского музыканта». На первом концерте у великого князя она «обошла оркестр и стала за стулом виолончелиста д’Ололио». Музыкант сделал вид, что вынимает платок, широко открыл карман, и великая княгиня обронила туда клочок бумаги. А потом «как ни в чем не бывало отправилась в другую сторону, и никто ни о чем не догадался». Читая эти строки, кажется, что императрица и через сорок лет потирала руки от удовольствия.
«НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К НЕСЧАСТЬЮ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ»
Итак, Екатерина «замирала от боязни», но делала, то есть умела побороть страх. Что касается ее супруга, то испуг буквально парализовывал его, лишая воли к сопротивлению. В этом смысле показательна история с падением дома в Гостилицах, имении графа Разумовского, куда императрица прибыла отпраздновать Вознесение 1748 г. 23 мая после позднего ужина в основном корпусе молодые вернулись в домик, который занимали возле катальной горки. Все улеглись. Но около шести утра раздался треск, и фундамент стал оседать. Обнаруживший это гвардейский сержант Левашов растолкал Чоглокова и сообщил, что «из-под дома вываливаются большие плиты». Тот немедленно поднялся в спальню подопечных, отдернул занавес и поднял их с постели. «Великий князь соскочил с постели, взял свой шлафрок и убежал. Я сказала Чоглокову, что иду за ним, и он ушел». Наскоро одевшись, великая княгиня вспомнила о своей домашней мегере Крузе, спавшей в соседней комнате, – обер-гофмаршал так торопился, что не зашел к ней. Растолкав камер-фрау и с трудом объяснив, в чем дело, Екатерина помогла той напялить на себя платье и повлекла к лестнице. Но драгоценное время было потеряно. Едва женщины оказались в зале, «как все затряслось с шумом, подобным тому, с каким корабль спускается с верфи». Дамы упали на пол. Им на помощь подоспел сержант Левашов, он поднял великую княгиню на руки и понес к лестнице. Дорогой та взглянула в окно и увидела, что катальная горка стоит вровень со вторым этажом, через минуту ее верх был уже на аршин выше. Лестница обрушилась. Но на обломках стояли люди, принимая спасавшихся. Сержант передал великую княгиню с рук на руки, а сам поспешил за Крузе.
Ознакомительная версия. Доступно 22 страниц из 110