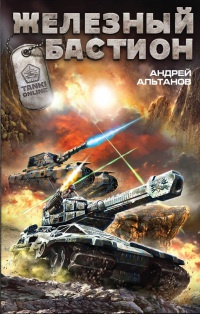На крыше в дежурство судачили, что у Кирова есть двойник. Его и показывают на митингах и собраниях, а сам Киров хранится в секретном бункере, чтобы не разбомбили как ценного всепартийного кадра.
Ким промолчал, но подумал, что если на митинге был двойник, то каков же настоящий Киров.
Нет, это он был, точно. Такая ряха нажористая. Во весь кадр.
119
Максим проследил немного кровавый след, полагая, что на одной ноге злодей далеко не ускачет, но след бодро узмеивался в проходные дворы в Пестеля, и Максим остановился.
Водка во фляге еще была. Вышел к Прачечному мосту, подумал, что давно не сочинял в бутылках. Гитлер соскучился, поди. Бегает по берегу, злобствует, усики закусывает: где бутыль, где бутыль?
Поцапался с патрулем, так, не слишком вздорно, патруль не обиделся. Нет, что за ресницы! Лед на Неве нарастал неровный, торосистый, напоминая ту картину с крестом, что показывала Елена Сергеевна. Комсомолку — неинтересно, хотя иногда можно. Водка звала на подвиги, что было не ко времени и не к месту. А глаза! Свет из них струился, как из лучшего мира. Капсула трамвая вкрадчиво прогромыхала по Литейному мосту, тусклый синеватый пузырек над темной рекой.
На этаже столкнулся с Ульяной: что же, хотя бы и Ульяну. Расплылся в улыбке.
— Ну привет, привет, — улыбнулась и Ульяна. — Чего такой довольный?
— Тебя увидал.
— Ладно врать.
— Правда.
Протянул руку, взял Ульяну за грудь. Так — нахаль-ненько, с полным будто бы правом, как он сам позже со стыдом вспоминал. Ульяна руку скинула.
— Ты чего? Слушай, да ты в стельку!
— Да нет, ничего еще… Ко мне зайдешь?
— Нет, — смотрела Ульяна внимательно и настороженно.
— Пошли выпьем…
Полез, привлечь попытался. Ульяна толкалась.
— Пусти. Пусти же!
На лестнице показался Арбузов. С рыком отпихнул Максима.
— Ты……?
Максим стоял, покачивался. Впрямь, прав Арбузов. Ему не нужны и неинтересны эти люди. В леднике в комнате есть еще водка и малосольные огурцы.
— Я предупреждал тебя? Ты…
Арбузов грозно раскраснелся, пыхтел, был, возможно, комичен, но Максим этого не замечал. Было неприятно и скучно.
120
Сон Вареньке приснился такой, что она, наверное, во сне зарделась, хотя не проверить. Ей снился Арька так близко, как она хотела, и с такими подробностями, которых она не знала еще наяву. Проснулась среди ночи. Световая тень проплыла по потолку, это проехал по улице автомобиль, какой-то специальный, неспециальным ночью нельзя. Ночные автомобили в их Колокольной были редкостью, так что Варенька сначала запуталась, где она. Но бубукала мерно мама, и болела разбитая на мосту губа, и все стало понятно: Арька только во сне, а так его нет, и она заплакала.
Снилось, что победа. Лето, Невский, засыпанный цветами, напротив «Окон Т.А.С.С.» выстроена триумфальная арка, полная лошадей с колесницами и знамен, а через нее идут победители: первый Арвиль, там же товарищ Киров, папа и Александр Павлович живые, и одноклассник Ваня, и Чижик, будто она тоже воевала, и вчерашний мужчина с моста. И салют.
А потом они остались вдвоем с Арькой.
А утром вспомнила сон: что лето. Неужели Победа будет только летом? Как долго!
— Могу помочь с пальтецом-то, — предложила Патрикеевна, хотя Варенька никому ничего не рассказала, а про губу сказала, что поскользнулась. — Поменяем на стеганку теплую, а продуктов в плюс можно взять — по твоим птичкиным аппетитам на месяц!
Варенька отказалась. И пуговица, кстати, только одна оторвалась, а вчера казалось, что все трещат. Одну пуговицу, верхнюю, можно и разную, даже получается форс. Пуговицу красивую Патрикеевна подарила — с розой.
Сон не отпускал. Ну чего же ждали они с Арькой, почему не поторопились?
121
Утренние извинения — кислые, скукоряченные, как неприбранная с вечера закуска. Арбузов их принял сквозь зубы.
Так принял, будто и не принял. Дружбе, стало быть — врозь. Максиму и впрямь было стыдно. Начал он припоминать былые алкогольные глупости: первым делом начинаешь путать свое и чужое.
— Сам же меня споил, — пошутить попытался.
Арбузов поморщился.
— Я там еще тебе изобретений нарыл, — сказал Максим. — Для плана «Д». До завтра подготовлю, занесу.
Арбузов кивнул.
Ульяна встретилась в коридоре, головой покачала:
— Сам все испортил. Дурак ты, Макс.
Максим потупился виновато, но теперь уже — актерствовал. Оглядел еще Ульяну раз исподлобья: кобыла кобылистая, нос, в общем, тяготеет к баклажану, и кожа под щеками обвисает эдак совершенно немолодежненько. А омут меж ног и вспомнить страшно: вспоминается рассказ про мальчика, у которого щенок в колодец упал. Даже и хорошо, что испортилось с ней.
Вот вчерашнюю барышню с моста при свете дня увидать: боязно. Вдруг померещилась в темноте красота неземная?
Боязнее вообще не увидать ее, впрочем.
Посмотрел в карту: мост называется 1-й Садовый.
Ближе к обеду его и Арбузова вызвал Рацкевич.
Щелкнул суставом.
— Чо мрачные такие? — сразу засек. — Поругались, что ли, ублюдки?
Арбузов-Максим не ответили. Рацкевич шлепнул ладонью по делу, только что видать выуженному из тридевятого сусека. Пыли в папке копилось с эпохи Урицкого, и ухнула вся эта пыль Максиму-Арбузову в носы. Закашляли хором, по типу клоунов.
— Как я вас! — хмыкнул Рацкевич. — Руки пожали быстро, козлы вонючие!