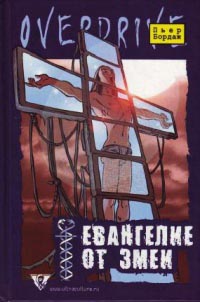себя, — уточнил сын.
— Ну, для себя. Что еще?
— Учить их надо.
Отец задумался.
— А ты подумал, сынок, ведет ли это к счастью?.. Сейчас у них простые мысли и чувства, уверенность в том, что полезен их труд и они сами. Чем ты хочешь это заменить? Ты знаешь, какие бездны, одна страшнее другой, открываются перед глазами сведущего? Какие бездны ужаса и холода? Сам я не так далеко пошел — и то порой ощущаю. Ледяной холод и ледяное уединение. С каждым вопросом все меньше понимаешь. С каждым вопросом меньше надежды на счастье. А вдруг они окажутся лучше других. Таких жалеть надо. Для них каждый человек как далекая звезда — вот какое это уединение... Они понимают весь ужас, в какой мы идем, всю бессмысленность каждого из миллионов поступков... Простой видит только слаженный шаг человеческих когорт. Мудрый слышит топот толпы, бегущей к пропасти. Он видит, что ведущие ее ненавидят толпу и друг друга. Он видит, что весь наш хваленый мир — рота, которая шагает не в ногу и в которой только поручики, только правительства империй шагают в ногу... Чтобы довести людей до всеобщей погибели.
Он покачал головою.
— Так не лучше ли пахать землю?.. Охотиться?
Сын серьезно смотрел на него.
— А мне ты хотел бы этого?
— Нет...
— Так не желай тогда и им.
...Вспоминая теперь этот разговор, Алесь не мог не думать, что сделал правильно.
Все хорошо. Теперь надо ехать. И он легко занес ногу в стремя.
— По седлам, хлопцы.
Урга слегка, путая, дал свечу. Потом опустился на передние ноги и затанцевал, косясь на бричку и девочек золотым и немного кровавым по белку глазом.
У Майки стало холодно в животе — такое это было совершенство, так ласково волновались золотая грива и хвост коня.
Мышастая Косюнька почувствовала измену, даже ревниво заржала и, перебирая аккуратненькими, как стопочки, копытцами, понесла Андрея к Урге, чтобы быть поближе к вероломному хозяину.
Двинулись.
Застоялые кони пошли легкой трусцой. Всадники, окружив бричку, ехали молча. Только бы с взрослых глаз.
По обе стороны аллеи стояли туманно-голубые, вытянутые, как на датском фарфоре, деревья. Они медленно отплывали назад.
А Майке все это было ново. И то, что мальчики эскортировали их, и то, что все молчаливо признавали вождем этого немного неуклюжего мальчика, ехавшего впереди всех на арабе, и то, что рядом с нею сидела эта, совсем не неприятная, крестьянская девочка с диковатыми синими глазами.
— Он жил у вас, — шепнула она. — Каков он?
— Приго-ожий, — ответила Янька. — И сме-елый. Он от меня бычка-годовика оттащил. Я с той поры боюсь коров.
И Майка почему-то была благодарна ей за добрые слова.
— Алесь, — позвала она.
Алесь придержал Ургу, поехал рядом.
— Ты молодчина, что сделал так.
— Как?
— Ну... что мы без взрослых.
Близнецы переглянулись, заприметив маневр Алеся. Пожалуй, это было не нужно ему: оставаться с дочкой человека, в парке которого они позавчера были. Но они смолчали. Они, вообще-то, ничего не рассказали Алесю о ночных своих приключениях, когда увидели, что утром приехала дочка Раубича. Не стоит. Тем более что она ничего себе. Бывают ведь и у чародеев хорошие дочки — это все знают, хоть бы по сказкам деда. Приедет королевич, так они его еще и от злого отца спасут, конечно, если влюбятся.
Мстислав сидел на месте кучера, и потому Алесь и Майка не обмолвились и словом о медальоне.
Когда выехали из парка — восток уже сильно краснел. Ребята начали дурачиться, гоняться друг за другом. Отъезжали так далеко, что становились кукольными, а потом вскачь, с дикими возгласами, летели прямо на бричку.
Потом поехали по заливным лугам вдоль Папороти. Тут травы никто не косил — слишком далеко было, — и кони прятались в ней выше живота, а всадники напоминали диких скифов. Буйно цвел малиновый кипрей, желтые конусы мощного царского скипетра качались далеко, куда достает глаз. Кондрат на ходу срезал полый стебель дудника и сделал из него пистолет, а потом, неожиданно налетев на бричку, наставил его на Мстислава.
— Кто таков? — спросил Мстислав.
— Волколака, — оскалив зубы, прошипел Кондрат. — Давайте дукаты в худую суму, давайте княгиню — с собою возьму.
И тянул руки к Яньке. Девочки визжали, хотя Волколака был мил и совсем не страшен и даже нравился Майке.
Было весело. А потом Андрей вел песню о Волколаке, и ему подтягивал неожиданно приятным голосом Мстислав:
Что то за тропка — без краю, без краю?
Что то за коник — ступою, ступою?
Злые татарники под копытами
И волчье солнышко над головою.
А потом вторую, как молодой Волколака пошел отбивать у гайдуков отцовских волов и не вернулся в дом и как ворон на сухом дубе говорил ему, что делает во дворе отец Волколаки. А отец ломал руки и приговаривал:
Я, проживая, и волов наживу,
А тебя, сыночек, ввек не найду.
Песня летела над морем разнотравья, и всем было жаль старого отца, но так и хотелось самим пойти в лес, на волю, под волчье солнце.
Потянулись мягкие горбы, заросшие вереском. Солнце всходило за спиною, когда они взъехали на один такой горб, а по другую сторону еще лежали тень и туман. И тут перед глазами детей вспыхнула в тумане белая широкая радуга, слабо-оранжевая снаружи, сизо-голубая изнутри. Затем солнце оторвалось от земли, белая радуга исчезла, и вереск лег перед глазами, украшенный миллионами паутинок, сияющих в каплях росы.
— Что ж это она? — жалобно спросила Майка. — Зачем исчезла?
— Погоди, — ответил Андрей, — сейчас тебе будет награда.
И награда появилась. На паутинках, на росном вереске вдруг появилась вторая радуга. Вытянутая, она лежала прямо на траве, сияла всеми переливами, убегала в бесконечность от их ног.
— Ты откуда знал? — спросила Майка с уважением.
— Знал, — просто ответил Андрей.
Майка с уважением вздохнула.
...А потом, как продолжение этой феерии, над вереском, над горбами, заросшими лесом, появились на слиянии Папороти и другой речушки, на высоком холме между ними, большие развалины — три башни и остатки стен.
Вброд перешли Папороть. Лазали по камням. Майка, Алесь и Андрей влезли даже на одну из башен. Кондрат и Мстислав с Янькой остались внизу.
Майка, Алесь и Андрей стояли в высоте и смотрели на необъятный мир, который весь, казалось,