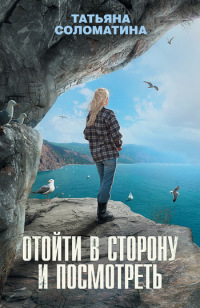Позже в тот же день мы садимся на трамвай, номер которого профессор Сошка написал карандашом на упаковке почтовых открыток, которые церемонно преподнес Клэр у входа в нашу гостиницу. На открытках — фотографии Кафки, его родных и близких, а также памятные места Праги, связанные с его жизнью и творчеством. Сошка объяснил нам, что такие наборы больше не выпускают: с тех пор как русские оккупировали Чехословакию, Кафка считается запрещенным писателем, самым запрещенным.
— Но, надеюсь, этот набор не последний у вас, — сказала Клэр. — У вас ведь остался еще один, для себя?
— Мисс Овингтон, — с учтивым поклоном ответил чех, — у меня осталась Прага. Прошу вас, не побрезгуйте. Не сомневаюсь в том, что каждому, кто имеет счастье познакомиться с вами, хочется вам что-нибудь подарить.
И тут он предложил нам посетить могилу Кафки, заметив при этом, что ему лучше нас не сопровождать, и указав на мужчину, стоящего лицом к гостинице и спиной к машинам на стоянке такси, шагах в пятидесяти дальше по бульвару; это, сообщил нам профессор, шпик, который запомнился ему с тех пор, как стал неотступно следовать по пятам за ним и его женой в первые месяцы после вторжения, пока профессор участвовал в создании подпольной оппозиции марионеточному режиму и его пищеварительный тракт еще функционировал безупречно.
— Но вы уверены, что это он? — спросил я.
— На все сто процентов.
И, поцеловав Клэр руку, профессор удалился стремительным и оттого, пожалуй, чуть ли не комическим шагом, почти бегом, и быстро затерялся в толпе у входа в метро.
— О господи! — вырвалось у Клэр. — Как тут страшно! Эти вежливые улыбочки… И столь поспешное бегство!
Мы оба изрядно озадачены, причем лично я — тем, что чувствую себя абсолютно защищенным с американским паспортом в кармане и под руку с такой красавицей.
На трамвае мы едем на пражскую окраину, где, собственно, и похоронен Кафка. Обнесенное высокой стеной еврейское кладбище лепится вплотную к куда более обширному христианскому; сквозь решетчатую ограду нам видны тамошние посетители; у родных могил они ковыряются в земле, как самые настоящие огородники. А с другой стороны еврейское кладбище выходит на мрачную дорогу, по которой сплошным потоком идут в два конца — в Прагу и из Праги — грузовые машины. Ворота еврейского кладбища наглухо заперты. Бренча цепью, я пытаюсь привлечь внимание смотрителя; должен же кто-то быть в этой чертовой будке у ворот. И впрямь какое-то время спустя оттуда выходит женщина с маленьким мальчиком. Я объясняю ей по — немецки, что мы прилетели сюда из Нью-Йорка, чтобы побывать на могиле Франца Кафки. Она вроде бы понимает мой немецкий, однако впустить нас отказывается. Не сегодня, говорит она. Возвращайтесь сюда во вторник. Я профессор филологии, объясняю я, и вдобавок еврей, и просовываю сквозь прутья решетки пригоршню крон. Невесть откуда появляется ключ, ворота отпирают, а маленький мальчик соглашается проводить нас до самой могилы, хотя мы прекрасно обошлись бы и без его помощи, потому что здесь имеется указатель. Надпись на нем сделана на пяти языках: по-чешски, по-русски, по — немецки, по-английски и по-французски — вот сколько народу покорил творческий гений вечно страждущего аскета, вот на сколько миллионов людей нагнал он своего страху!
Из всего, чем отмечено место последнего упокоения Франца Кафки (тогда как все вокруг него не отмечено ровно ничем), в глаза бросается устремленный далеко в высь, к остроконечной верхушке, удлиненно-продолговатый белесый обелиск — своего рода надгробный фаллос. Таков первый сюрприз. Второй заключается в том, что затравленный родными блудный сын похоронен между отцом и матерью, надолго его пережившими. Я подбираю гальку с дорожки и присоединяю ее к одной из маленьких галечных пирамидок, составленных паломниками, которые побывали на могиле писателя до меня. Ни разу не отдал я такого долга памяти могилам своих дедов и бабок, похороненных вместе с десятками тысяч других евреев на кладбище у дороги, до которого от моей нью-йоркской квартиры можно добраться за двадцать минут; да и могилку матери на тенистом холме в Кэтскилле я не проведывал с тех пор, как мы с папой съездили туда водрузить надгробный камень. На темных прямоугольных каменных плитах в аллее за могилой Кафки высечены знакомые еврейские фамилии. Таких имен, как тут, полно у меня в записной книжке; их всегда можно было увидеть, выглянув из-за материнского плеча, в журнале постояльцев «Венгерского Пале-Рояля»: Леви, Гольдшмидт, Шнейдер, Гирш… Ряды могил уходят вдаль, но вроде бы приглядывают здесь только за писательской. У остальных здешних мертвецов не осталось живых родственников, которые могли бы выполоть сорняки, подрезать побеги плюща, перебирающиеся с одного дерева на другое и образующие плотный полог над всем похороненным здесь еврейством. Ухаживают тут только за могилой человека, который так и не женился и не оставил потомства. Саркастический кладбищенский штрих, вполне во вкусе самого Кафки!
Прямо напротив могилы Кафки в стену вставлен камень, надписанный именем его великого друга Макса Брода. К этому камню я тоже подкладываю камешек гальки. И только тут впервые замечаю, что по всей кладбищенской стене тянутся таблички с фамилиями пражских евреев, замученных в Терезиенштадте, Освенциме, Бельзене и Дахау. Никакой гальки не хватит на то, чтобы почтить память каждого.
Мы с Клэр возвращаемся к воротам, молчаливый мальчик плетется следом. Уже у выхода Клэр фотографирует его, а затем жестами предлагает ему записать ей свое имя и адрес на клочке бумаги. Бурно жестикулируя и строя гримасы, которые заставляют меня внезапно осознать, как ребячлива она — и как ребячлив я, горемычный, — Клэр умудряется втолковать мальчику, что пришлет ему снимок, как только фотографии будут готовы. И профессору Сошке она тоже отправит снимок — тот, что был сделан на фоне сувенирной лавки в кукольном домике, где Кафка некогда прожил целую зиму.
Почему я называю то, что нас соединяет, ребячеством? Почему не хочу назвать это счастьем? Пусть это случится! Пусть будет так! Оставь сомнения, прежде чем они появились! Ты нуждаешься в том, в чем нуждаешься! Примирись с этим!
Женщина вновь вышла из будки запереть за нами ворота. И мы с ней опять перекидываемся парой слов по-немецки.
— А много народу бывает на могиле у Кафки?
— Немного. Но всё исключительно приличные люди. Профессора вроде вас. А если и студенты, то очень серьезные. Это ведь был великий человек! В Праге жило много замечательных еврейских писателей. Франц Верфель. Макс Брод. Оскар Баум. Франц Кафка. А сейчас, — впервые за все время она удостаивает мою спутницу взглядом, да и то искоса, — никого уже не осталось.
— Как знать! Может быть, из вашего мальчика получится великий еврейский писатель.
Она переводит мои слова сыну. Затем переводит мне с чешского ответ мальчишки, который разглядывает носки своих туфель:
— Он хочет стать летчиком.
— Объясните ему, что не ко всякому летчику на могилу съезжаются люди со всех концов света.
Они вновь разговаривают по-чешски, и женщина с приветливой улыбкой на устах (да и как же ей не улыбнуться выбившемуся в профессора еврею?) поясняет мне: