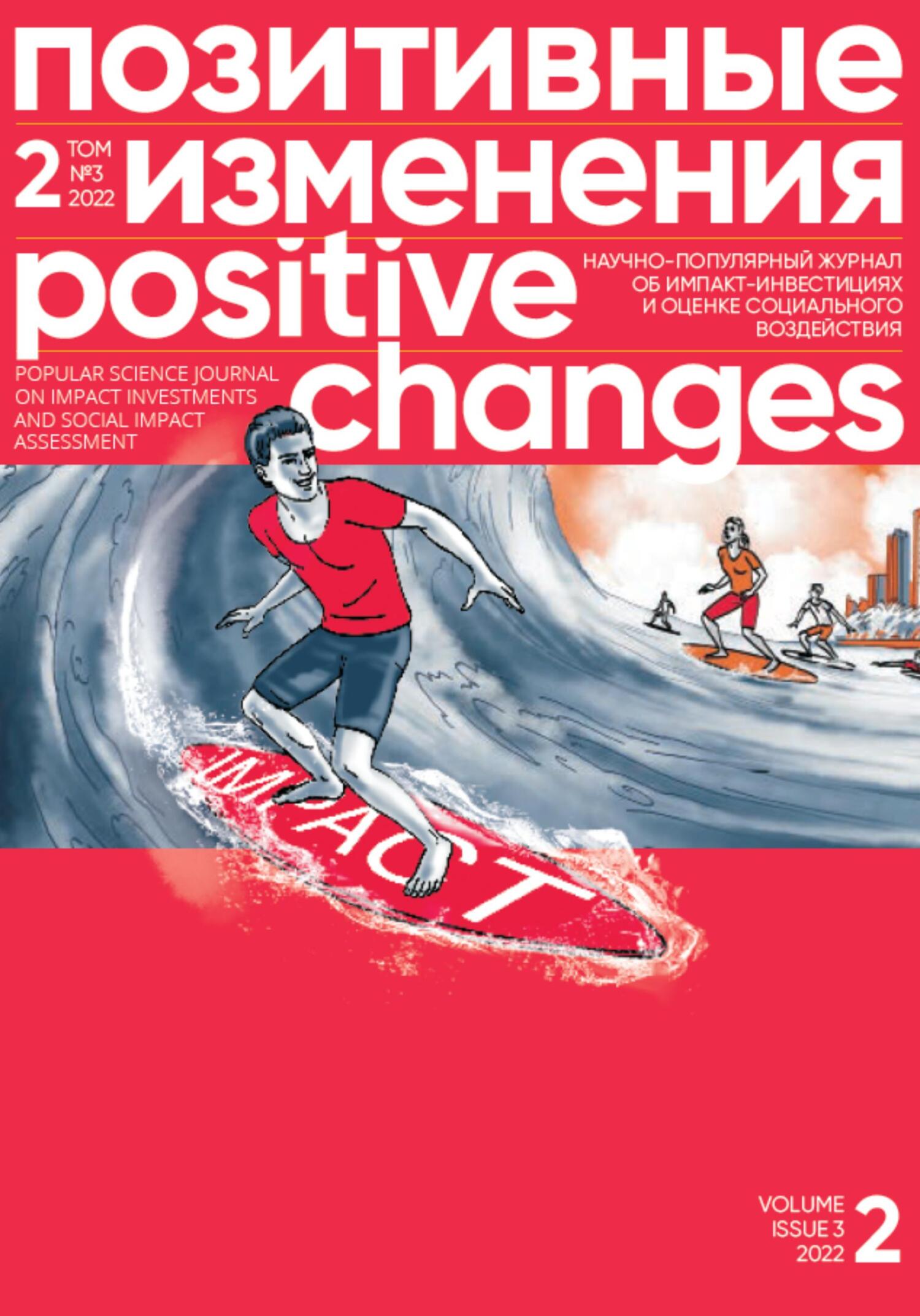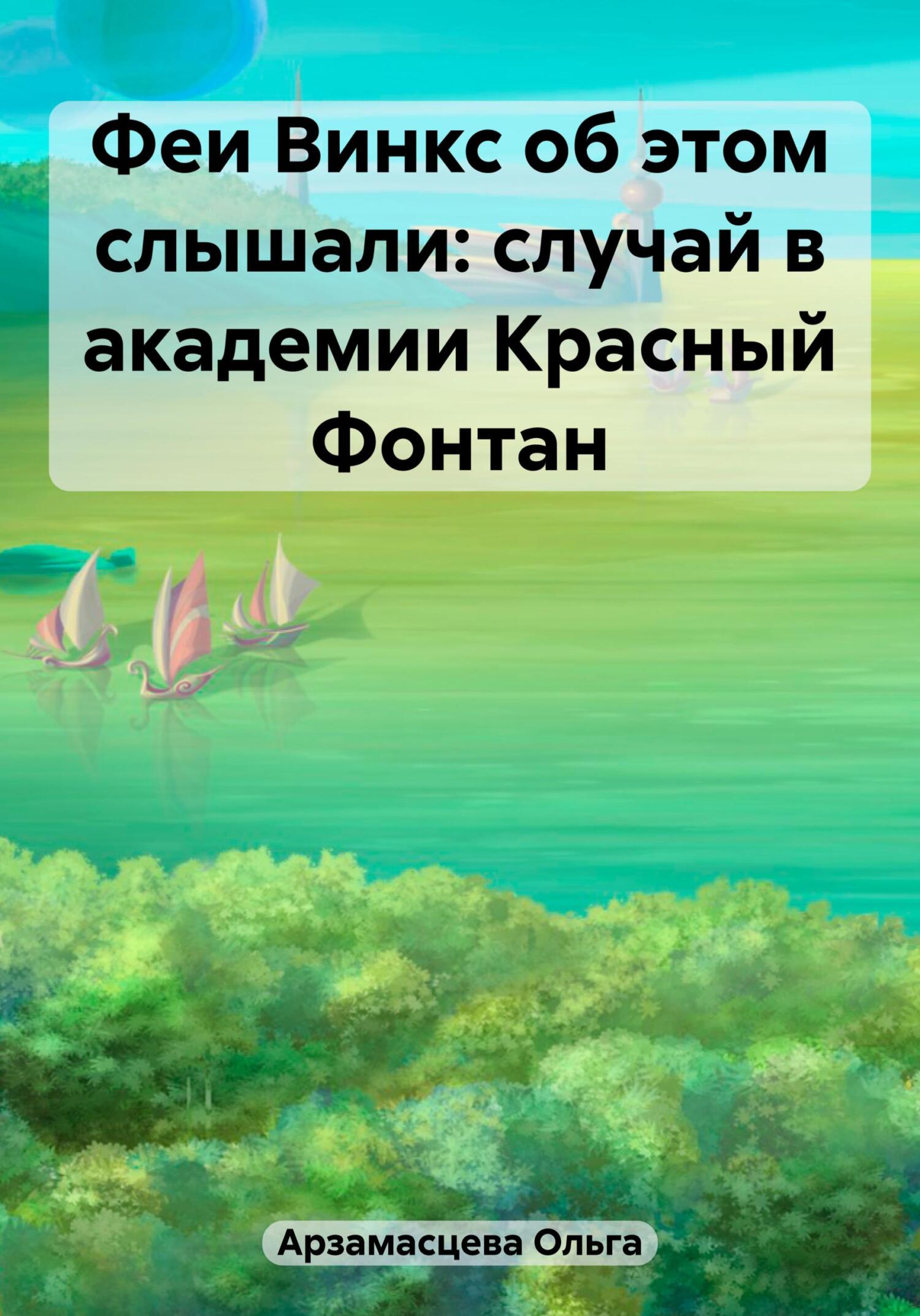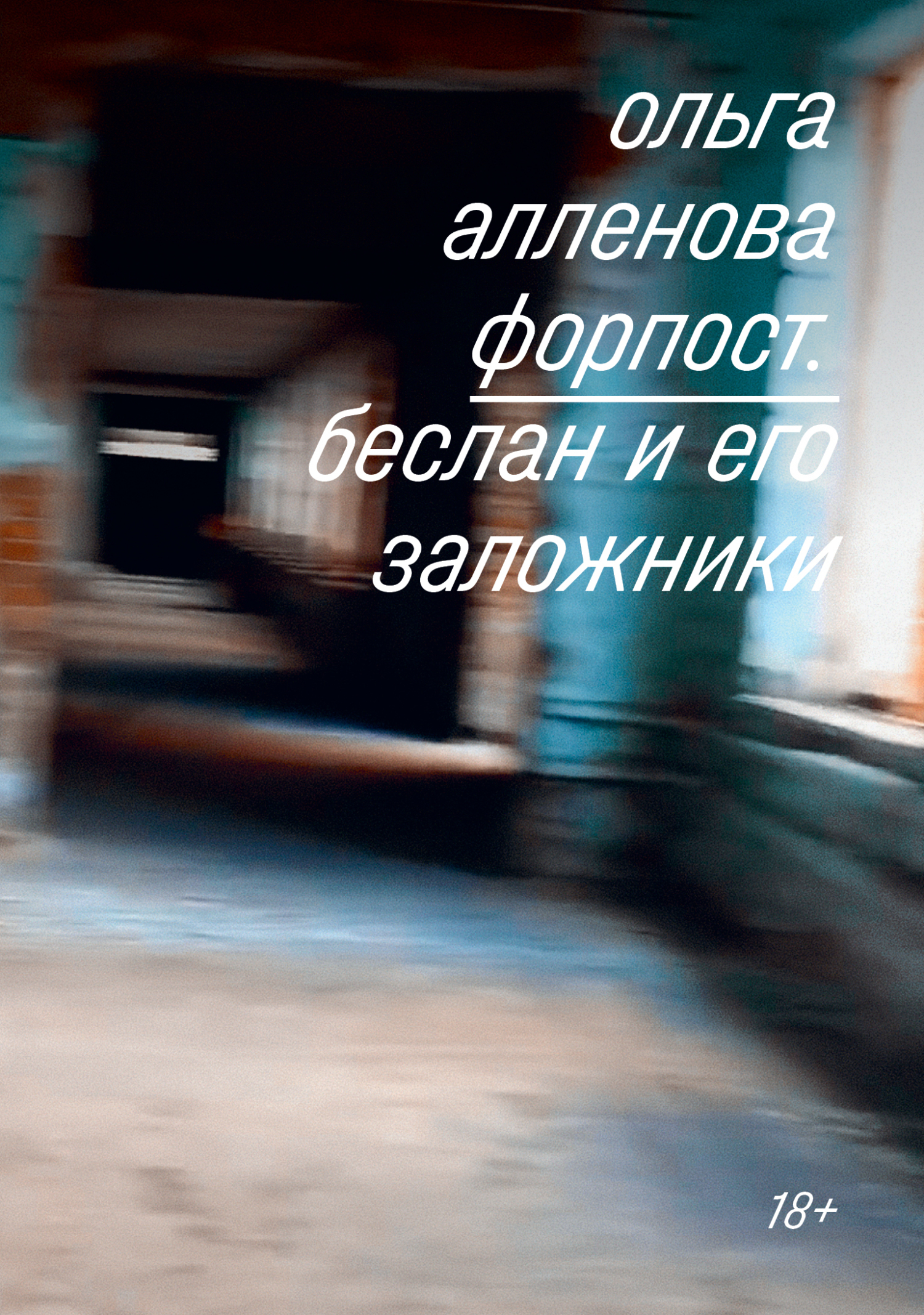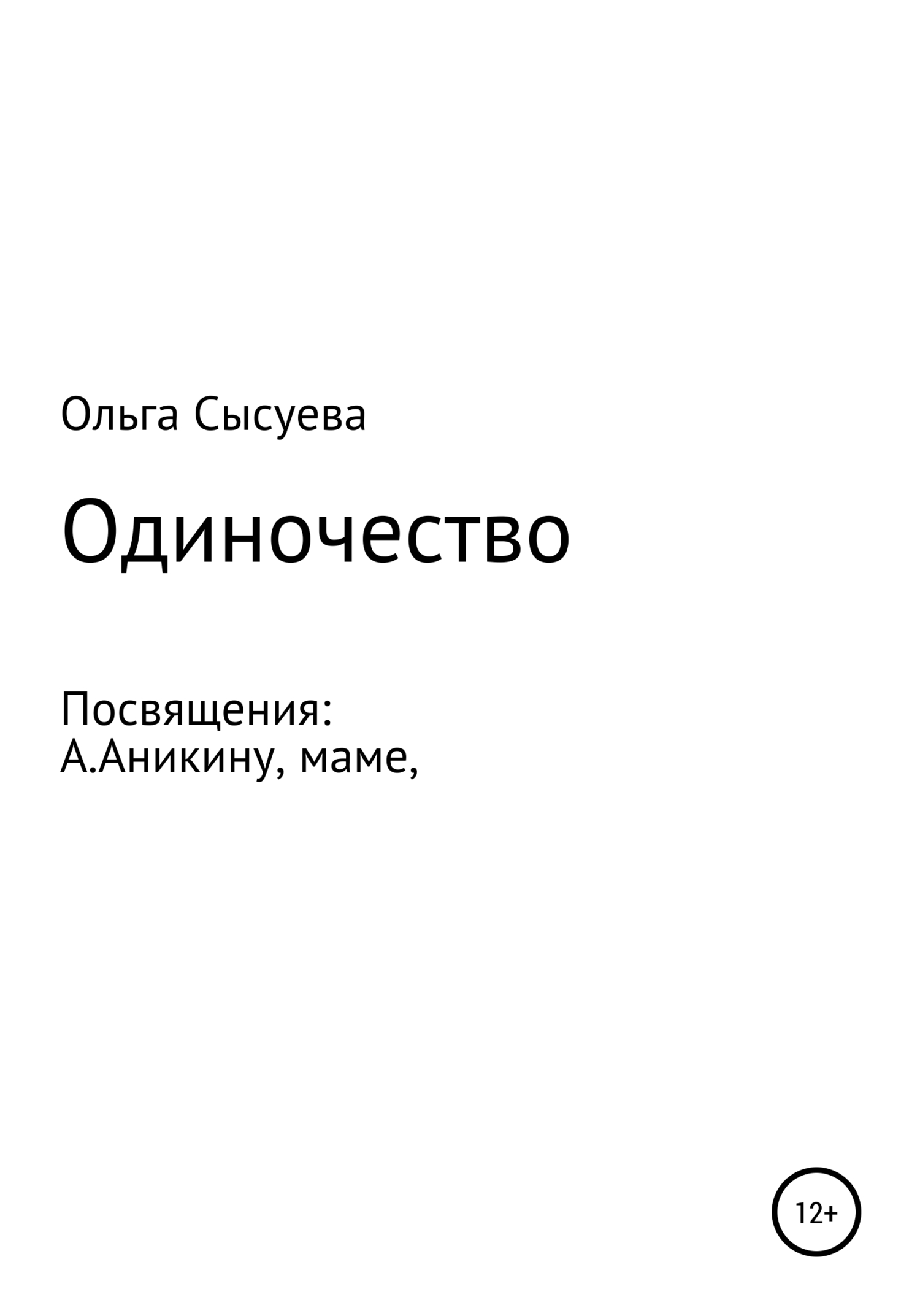Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92
Главными словами здесь становятся два союза — «зато» и «но при этом». Да, Сталин уничтожал миллионы, зато он построил индустрию (или: но при этом он выиграл войну). Вообразите себе аналогичные высказывания в Германии или Италии (но зато он — Муссолини — подготовил лучшее издание старинной музыки и построил Новую Остию!). Там, где начинается взвешивание с такими гирями на двух чашах, мне кажется, что мир или кончился, или вообще никогда не начинался. Употребляющим эту технику так не кажется.
Далее, аргумент от невозможности хорошего вообще. Здесь главные слова — «еще хуже» или «не лучше». Конечно, при «железном занавесе» было плохо, но теперь, во времена либеральной коррупции, еще хуже (или не лучше).
Логическую ошибочность всех этих апологий не нужно доказывать. Но все же главное, что при этом нарушается, — это, на мой взгляд, не закон построения силлогизма, а сама природа моральной ориентации. Ориентация в добре и зле в принципе моментальна, непосредственна, нерефлективна, наподобие суждений вкуса («мне нравится», «мне не нравится»). Мы не объясняем себе, почему нам это «нравится», а это «не нравится». Суждения вкуса интуитивны и выносятся со странной уверенностью, отмеченной Гадамером. У кого такой уверенности нет, о том можно сказать, что у него нет и вкуса (не «хорошего вкуса», а просто вкуса). Точно так же, я думаю, выносятся глубинные моральные суждения: «это хорошо» или «это нехорошо». Если мы включаем механизм весов, сравнений, выяснений, мы никогда из него уже не выйдем. Начинается сводящее сума качание маятника, торговля неизвестно с кем: «с одной стороны», «с другой стороны»… «с пятьдесят пятой стороны»…
Почему же мы постоянно встречаем это упорное, почти нечеловеческое сопротивление отнесению чего-либо к злу? Почему дурное — и по преимуществу дурное — находит у нас столько добровольных заступников? Вероятно, потому, что безусловное отнесение чего-либо к злу обязывает того, кто это делает, к решению, к поступку, к хотя бы мысленному, хотя бы «ханжескому» нет (то есть я признаю, что это зло, хотя сам я его делаю). Отречение от зла (даже в уме, в суждении) опасно — все это бессознательно чувствуют.
То, что получается в результате всех «пониманий» («понимать надо!»), взвешиваний и усмотрений добра в худе и худа в добре, — это не arbitrary, а знаменитое русское НИЧЕГО! Последнее слово, которым в толстовском «Отце Сергии» убеждает подвижника его слабоумная соблазнительница: «Ну, авось ничего!»
Как мы уже говорили, советская эпоха внесла в традиционный «восточный» моральный релятивизм много своего — и, вероятно, небывалого в истории. Здесь я хочу поспорить с Юрием Николаевичем Афанасьевым, который говорил, что советское образование осуществлялось как наполнение пустого сосуда отвлеченными знаниями. Да что Вы, Юрий Николаевич! Это была жесточайшая система индоктринации, в том числе индоктринации моральной. То, чему нас учили с первого класса, с того самого момента, когда детям в качестве образца для подражания предлагали рассказ М. Зощенко «Как Ленин обманул жандарма», было обучением определенной морали. Морали утилитарной и цинической, которая называлась «классовой», а также «диалектической». Я хорошо помню это впечатление инициации: перед тобой открывался какой-то новый мир. Почва уходила из-под ног, параллельные прямые пересекались, как у Лобачевского. Ты думал, что хорошее хорошо всегда и везде? Нет! Это не научно. Все зависит от того, чему оно служит. Выбор невелик: «нам» или «им». Если «нам», то и убийство хорошо, если же «им»… Мои ровесники помнят: даже религия — главный враг идеологии — могла вдруг оказаться «прогрессивной». Оказалась она таковой, помнится, во времена иранской революции. Быть может, никогда еще «теория моральной относительности» не преподавалась так открыто в качестве официальной системы ценностей. И это наследство уже нескольких поколений. Представьте себе, что в советское время детям предложили бы в качестве поучительного чтения «Фальшивый купон» Толстого! Моральная безотносительность была крайней крамолой.
Но, отвлекаясь от нашей недавней истории: моральный агностицизм растет из реальной сложности. Как мы знаем, окончательное отделение добра от зла, пшеницы от плевел оставлено будущему. По словам архимандрита Софрония (Сахарова), выражающего православную нравственную интуицию, «зло в чистом виде не существует и не может существовать»; «свой положительный аспект зло стремится представить человеку как ценность настолько важную, что ради достижения ее — дозволены все средства»[128]. Так же и добро: «в эмпирическом бытии человека абсолютное добро не достигается». Таким образом, «наличие несовершенств в человеческом добре, с одной стороны, и неизбежное наличие доброго предлога во зле, с другой, делает различение добра от зла очень трудным»[129].
Тем не менее некоторые отчетливые ориентиры аскетический опыт предлагает. Один из них (я продолжаю излагать архимандрита Софрония, который основывает свои размышления на высказываниях преподобного Силуана) — запрет оправдывать «средство» «целью» и вообще делить реальность на «целевую» и «орудийную»: «добро, не добро сделанное, не есть добро». Другой ориентир — запрет предполагать за злом возможность быть причиной блага. «Если нередко побеждает добро и своим явлением исправляет зло, то неправильно думать, что к этому добру привело зло, что добро явилось результатом зла. Это невозможно. Но сила Божия такова, что там, где она является, она исцеляет все без ущерба, ибо Бог — полнота жизни и творит жизнь из ничего» [130]. Не ответ ли это на обсуждаемую нами пословицу — или, во всяком случае, на ее «философское» истолкование? И основополагающий ориентир — интуиция онтологической асимметричности добра и зла. «Зло действует обманом, прикрываясь добром, но добро в своем осуществлении не нуждается в содействии зла»[131] (курсив мой. — О. С.).
Вот это-то последнее положение и не может быть принято бытовым моральным агностицизмом. Как это — не нуждается? Если вдуматься, мы имеем дело, собственно, не с неразличением добра и зла, не с произвольной (arbitrary) смесью «добра» и «худа», а с погружением всего реального в стихию зла, с растворением его в этой стихии. В реальности и необходимости зла сомневаться не принято: то, что вызывает недоверие, — это как раз добро, которое как будто бессильно и, главное, нереально «в мире сем». Дружба со злом, «понимание» его неотделимы от «непонимания» добра, от непризнания за ним самостоятельной и реальной силы. Действовать оно может, только привлекая к себе возможности безусловно реального и сильного зла. Интересно, что именно добро в этой ситуации требует себе оправдания — и оправдание это (как у Вл. Соловьева в «Оправдании добра») не перестает представляться экстравагантной идеей. Человек, верящий в силу добра и собирающийся руководствоваться этой верой, — иначе говоря, неиспорченный человек — воспринимается как наивный чудак, донкихот, «романтик», полупризрак в мире «настоящего», который просто «жизни не
Ознакомительная версия. Доступно 19 страниц из 92