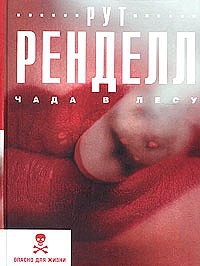Элизабет Криллинг вышла из аптеки и, повесив голову, побрела к повороту на Глиб-роуд, то и дело натыкаясь на прохожих, точно слепая. До чего же долго надо идти, и все мимо этих бесконечных песчаных домов, призрачных в предгрозовом свете и таких длинных, бесконечно длинных… А когда ты придешь, наконец, домой, тебе останется лишь одно.
Глава 14
Законно для христиан… брать в руки оружие и сражаться в войнах.
Тридцать девять статей
Когда они вернулись в «Оливу и голубя», на столике в холле Генри поджидало письмо с почтовой маркой Кендала. Он сначала посмотрел на него с недоумением, но потом вспомнил. Полковник Космо Плашет, офицер Пейнтера.
– Что теперь? – спросил священник у Чарльза, когда Тесс поднялась наверх, чтобы прилечь.
– Не знаю. Они возвращаются в Пурли сегодня вечером, – ответил молодой человек.
– А мы – в Трингфорд?
– Я не знаю, отец. Говорю тебе, я не знаю. – И Арчери-младший умолк, раздраженный, разрумянившийся от злости – потерянный ребенок. – Хотя мне придется съездить к Примеро и извиниться, – заговорил он потом снова – малыш вспомнил о хороших манерах. – Я чертовски плохо с ним поступил.
Генри, повинуясь какому-то инстинкту, предложил:
– Давай я извинюсь за тебя. Позвоню им, если хочешь.
– Спасибо. Если он будет настаивать, чтобы я явился к нему и принес извинения лично, я поеду. А ты, оказывается, говорил раньше с его женой? Я так понял со слов Вексфорда.
– Да, говорил, но я не знал тогда, кто она.
– Это, – сказал Чарльз, снова посуровев, – как раз в твоем духе.
Его отец промолчал. Неужели он и правда позвонит Имоджен и будет просить прощения? И с какой стати он решил, что она вообще подойдет к телефону? «Надеюсь, мистер Арчери, что в ходе вашего расследования вам удалось соединить приятное с полезным». И наверняка она рассказала мужу, что имела в виду. Выложила ему все о том, как немолодой священник ударился в сантименты, увидев ее лицо. Он так и слышал голос Примеро, его интонацию – «И что, он приставал к тебе, этот старый осел, нет?» – и ее легкий серебристый смех в ответ. Внутри у Генри все съежилось. Он вошел в пустую гостиную и вскрыл конверт с письмом полковника Плашета.
Оно было написано от руки на плотной шероховатой бумаге, белой, но почти такой же толстой, как та, из которых делают пыжи для патронов. Судя по тому, что чернила на странице то и дело меняли свой цвет от черного до почти серого и обратно, полковник не пользовался шариковой ручкой. «Почерк старика, – подумал викарий, – и адрес военного: Шринагар, Черч-стрит, Кендал»…
«Дорогой мистер Арчери, – прочитал он. – Я с интересом прочел ваше письмо и охотно предоставлю вам всю информацию о рядовом Герберте Артуре Пейнтере, которой располагаю. Вам, вероятно, известно, что во время суда над ним ко мне не обращались с просьбой засвидетельствовать его характер, хотя я к этому готовился и, к счастью, сохранил кое-какие заметки, которые сделал тогда. Я говорю «к счастью», ведь рядовой Пейнтер, как вы понимаете, служил под моим началом двадцать два – двадцать три года назад, а память у меня уже не та, что прежде. Однако если вы пребываете под впечатлением, что я обладаю некоей информацией, которая может оказаться полезной для родственников Пейнтера, вынужден сразу вас разочаровать. Возможно, адвокат Пейнтера принял мудрое решение не вызывать меня, справедливо полагая, что всякое мое слово о нем облегчит задачу отнюдь не стороне защиты, но, напротив, стороне обвинения».
Так вот, значит, как. И в этом письме его не ждет ничего, кроме уже опостылевшего перечисления дурных наклонностей Пейнтера. Старосветская манера полковника Плашета писать и выражать свои мысли, как луч мощного прожектора, выхватывала из сумерек стенограммы процесса самую суть характера того человека, с которым был готов породниться его сын. Арчери продолжал читать, но больше из любопытства, уже не надеясь найти в письме что-то полезное для себя.
«Пейнтер служил в войсках Его Величества уже год, когда его перевели в мое подразделение. Это случилось сразу перед тем, как нас отправили в Бирму в составе Четырнадцатой армии. Служил он крайне неудовлетворительно. По прибытии в Бирму он три месяца не участвовал ни в каких боевых операциях, зато успел трижды получить взыскание за пьянство и дебоширство, а также отсидеть неделю на гауптвахте за оскорбление офицера.
Однако во время боевых действий его манеры и поведение заметно улучшились. Он был от природы драчлив, смел и агрессивен. Вскоре после того, как наш полк вступил в боевые действия, в деревне, где мы стояли, была убита молодая женщина-бирманка. Состоялся военный трибунал, на котором Пейнтера обвинили в ее убийстве. Тем не менее его вина не была доказана. Об остальном я умолчу.
В феврале 1945-го, за шесть месяцев до прекращения военных действий на Дальнем Востоке, Пейнтер подхватил распространенную в тропиках болезнь, проявляющуюся в сильном изъязвлении кожи нижних конечностей, которая в его случае усугубилась его полным, как мне говорили, пренебрежением элементарными нормами гигиены и отказом соблюдать диету. Он сделался сильно болен, лечение не помогало. В это время в калькуттском порту как раз стоял большой военный транспорт, и, как только состояние Пейнтера позволило, его и еще нескольких больных переправили на судно по воздуху. Транспорт достиг какого-то из портов в Великобритании в марте 1945 года.
Не располагая информацией о дальнейшей судьбе Пейнтера, могу лишь предположить, что он был комиссован из армии по состоянию здоровья.
Если у вас остались еще вопросы касательно службы Пейнтера в армии, пишите мне, не стесняясь, и я с радостью отвечу на них так подробно, как только позволят моя память и осмотрительность. Данное письмо вы без малейших сомнений можете предать гласности. Прошу вас, однако, не отказать и мне в просьбе прислать мне копию вашей книги, когда та выйдет из печати.
Искренне ваш,
Космо Плашет».
Все почему-то уверены, что он пишет книгу. Торжественный стиль письма полковника позабавил Генри, но вот в рассказе об убийстве молодой бирманки ничего забавного не было. Да и оговорка полковника – «об остальном я умолчу» – показалась ему более внятной, чем целые страницы объяснений.
Ничего нового, и ничего жизненно важного. Откуда же тогда это неприятное ощущение, будто он что-то упустил? Да тут и упускать нечего… Пастор стал снова просматривать письмо, сам не зная, что ищет. И тут, пока он сидел, вглядываясь в тонкие петли и завитки почерка полковника, его вдруг охватила волна трепетного ожидания. Он боялся говорить с ней и в то же время страстно желал снова услышать ее голос.
Подняв голову от письма, викарий даже удивился тому, как сильно потемнело в комнате. Свинцовые тучи закрыли небо, поглотив яркий свет летнего дня. Над крышами домов к востоку от гостиницы свинец сменялся грозным пурпуром, а когда Арчери начал складывать письмо, яркая вспышка молнии на миг озарила комнату холодным светом, в котором слова на бумаге показались ему особенно отчетливыми, а собственные руки – мертвенно-бледными. Раскат грома настиг его, когда он уже подходил к лестнице, а его отголоски еще продолжали с ворчанием кружить по старому дому, когда он входил к себе в номер.