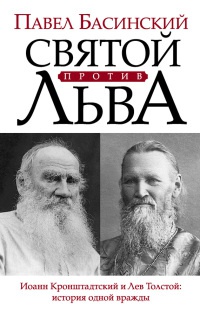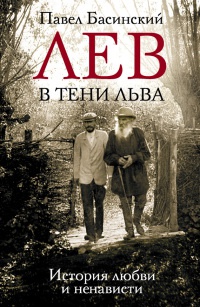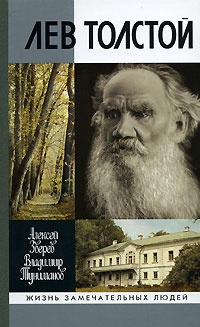Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 142
– Уйди, уйди!
Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно – я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, всё повторяла: „За что? Что с ним?“
Она рассказала мне уже немного погодя: – Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ – „Уйди, уйди!“ – злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофеем и чашкой и бросил всё на пол. Я схватила его руку. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол».
«Это событие вызвало выкидыш…» – пишет С.А. в «Моей жизни».
67-й год, когда это случилось, был критическим в жизни Толстого. Всю зиму он «раздраженно, со слезами и волнением» заканчивает третий том «Войны и мира», испытывая при этом сильнейшие головные боли. В марте в одну ночь сгорели все оранжереи, заведенные дедом Волконским. Л.Н. едва успел вытащить из пожара детей садовника. В марте же умирает жена его лучшего друга – Долли Дьякова. На похоронах в Москве он узнает о нелепой смерти сестры А.А. Толстой Елизаветы Андреевны в Италии – подавилась костью. «Бывает время, когда забудешь про нее – про смерть, а бывает так, как нынешний год, что сидишь со своими дорогими, притаившись, боишься про своих напомнить и с ужасом слышишь, что она <то> там, то здесь бестолково и жестоко подрезывает иногда самых лучших и самых нужных», – пишет он А.А. Толстой. Наконец, он сам в этот год становится особенно мнительным на предмет собственного нездоровья. Подозрение, что у него чахотка, заставляет обратиться к московскому врачу Захарьину. Со страхом ждет приговора. Находят лишь камни в желчном пузыре.
В этот год Толстой часто выезжает в Москву: хоронить Долли, устраивать дела с печатанием «Войны и мира» и на обследования к Захарьину.
Во время этих отлучек они переписываются с женой каждый день! В этой переписке 67-го года есть что-то необыкновенно трогательное и… ненормальное, как и во всей переписке Толстого с женой, завершившейся страшной «глухой» перепиской во время его ухода.
«Боюсь не успеть написать тебе завтра, милый Левочка, и потому начинаю свое письмо с вечера, в 11 часов, когда дети спят и когда особенно грустно и одиноко. А завтра тетенька посылает Ивана, и я уже не могу послать его поздно. Утром, во всяком случае, напишу, всё ли у нас благополучно. А теперь мы все здоровы, дети, кажется, теперь совсем поправились, боль, которая у меня была утром, тоже прошла, и ничего у нас особенного не случилось. Нынче необыкновенной деятельностью старалась в себе заглушить все мрачные мысли, но чем более старалась, тем упорнее приходили в голову самые грустные мысли. Только когда я сижу и переписываю, то невольно перехожу в мир твоих Денисовых и Nicolas (герои „Войны и мира“. – П.Б.), и это мне особенно приятно. Но переписываю я мало, всё некогда почему-то.
Завтра никак не могу еще иметь письма от тебя и жду этого письма с болезненным нетерпением. Ведь, подумай, я ничего не знаю, кроме лаконического содержания телеграммы, а воображение мое уже замучило меня. Знаешь, целый день хожу как сумасшедшая, ничего не могу есть, ни спать, и только придумываю, что Таня, что Дьяковы, и всё воображаю себе Долли, и грустно, и страшно, да еще, главное: и тебя-то нет, и о тебе всё думаю, что может с тобой случиться. Приезжай скорей».
Ответы Л.Н. дышат не меньшей нежностью и заботой, только, пожалуй, более чувственно-страстными.
«Сижу один в комнате во всем верху (квартиры Берсов. – П.Б.); читал сейчас твое письмо, и не могу тебе описать всю нежность, до слез нежность, которую к тебе чувствую, и не только теперь, но всякую минуту дня. Душенька моя, голубчик, самая лучшая на свете! Ради Бога, не переставай писать мне каждый день до субботы… Без тебя мне не то, что грустно, страшно, хотя и это бывает, но главное – я мертвый, не живой человек. И слишком уж тебя люблю в твоем отсутствии».
Впрочем, как раз эта пылкая страстность мужа не очень нравилась С.А. «Хотя приходит в голову, что причины твоей большей нежности от причин, которые не люблю я; но потом я сейчас же не хочу себе портить радости и утешаюсь и говорю себе: от каких бы то ни было причин, но он меня любит, и слава Богу», – писала она.
Результатом этой страстности были дети, один за другим. С.А. любила детей бесконечно, в уходе за ними и их воспитании проявлялся ее главный жизненный талант. Но постоянное состояние беременности, почти без передышки, начинает ее тяготить, а, кроме того, она скоро обращает внимание, что ее муж ничем не отличается от большинства обыкновенных мужчин: любит жену здоровую, а не больную.
«Из тринадцати детей, которых она родила, – писал сын Толстых Илья Львович, – она одиннадцать выкормила собственной грудью. Из первых тридцати лет замужней жизни она была беременна сто семнадцать месяцев, то есть десять лет, и кормила грудью больше тринадцати лет…»
Но особенно возмущало С.А., что ее муж, отличаясь страстным мужским темпераментом до преклонных лет (последний ребенок, Ванечка, родился в марте 1888 года, незадолго до шестидесятилетия Толстого и сорокачетырехлетия С.А.), при этом подчеркнуто отрицательно относился к половой связи, считая ее греховной и недостойной духовного существа. Удивительно, но это отношение нисколько не изменилось с тех пор, когда он страдал от «чувства оленя» к девкам и крестьянкам. «Но что же делать?» – говорил он жене в таких случаях, давая ей понять, что если он и не властен над «чувством оленя», испытываемого уже по отношению к ней, это еще не значит, что он готов нравственно оправдывать это чувство. Его записи в дневнике вроде: «Преступно спал», – буквально взрывали С.А. Они намекали ей на то, что она не просто является соучастницей этого «преступления», но и его главным провоцирующим мотивом. Но главное – главное! – ее выводило из себя то, что муж не видит принципиальной разницы между ней и теми женщинами, которые были до нее.
Единственным оправданием половой связи Толстой считал рождение детей. «Связь мужа с женою, – пишет он в записной книжке, – не основана на договоре и не на плотском соединении. В плотском соединении есть что-то страшное и кощунственное. В нем нет кощунственного только тогда, когда оно производит плод. Но всё-таки оно страшно, так же страшно, как труп. Оно тайна». И здесь же он пишет о неразрывной, «смертной» связи мужа и жены, указывая, что случаи почти одновременных смертей брата и сестры крайне редки, а вот старых супругов – сколько угодно. И в этом надо почувствовать тонкость отношения Толстого к половой связи. Он видел в ней не только грех, но и тайну, такую же, как смерть. Смерть всегда завораживала Толстого. Он не мог не понимать, что первым звеном в цепочке: рождение – жизнь – смерть является половая связь. Отсюда она пугала его. Если результатом половой связи не становится плод – рождение и жизнь, то эта связь означает «труп».
Этой тонкости в отношении мужа к плотской связи С.А. не понимала. Да ей было и не до того. Для нее эта связь означала конкретные вещи: тяжелое состояние беременности, муки родов, грудницу, бессонные ночи, холодность мужа к больной жене и ее ревность к молодым и здоровым женщинам, вроде своей сестры… «Сознаю, что я тогда начинала портиться, делаться более эгоистка, чем была раньше. Спасибо и за то, что, кроме меня, никого не любил Лев Николаевич, и строгая, безукоризненная верность его и чистота по отношению к женщинам была поразительна. Но это в породе Толстых…»
Ознакомительная версия. Доступно 29 страниц из 142