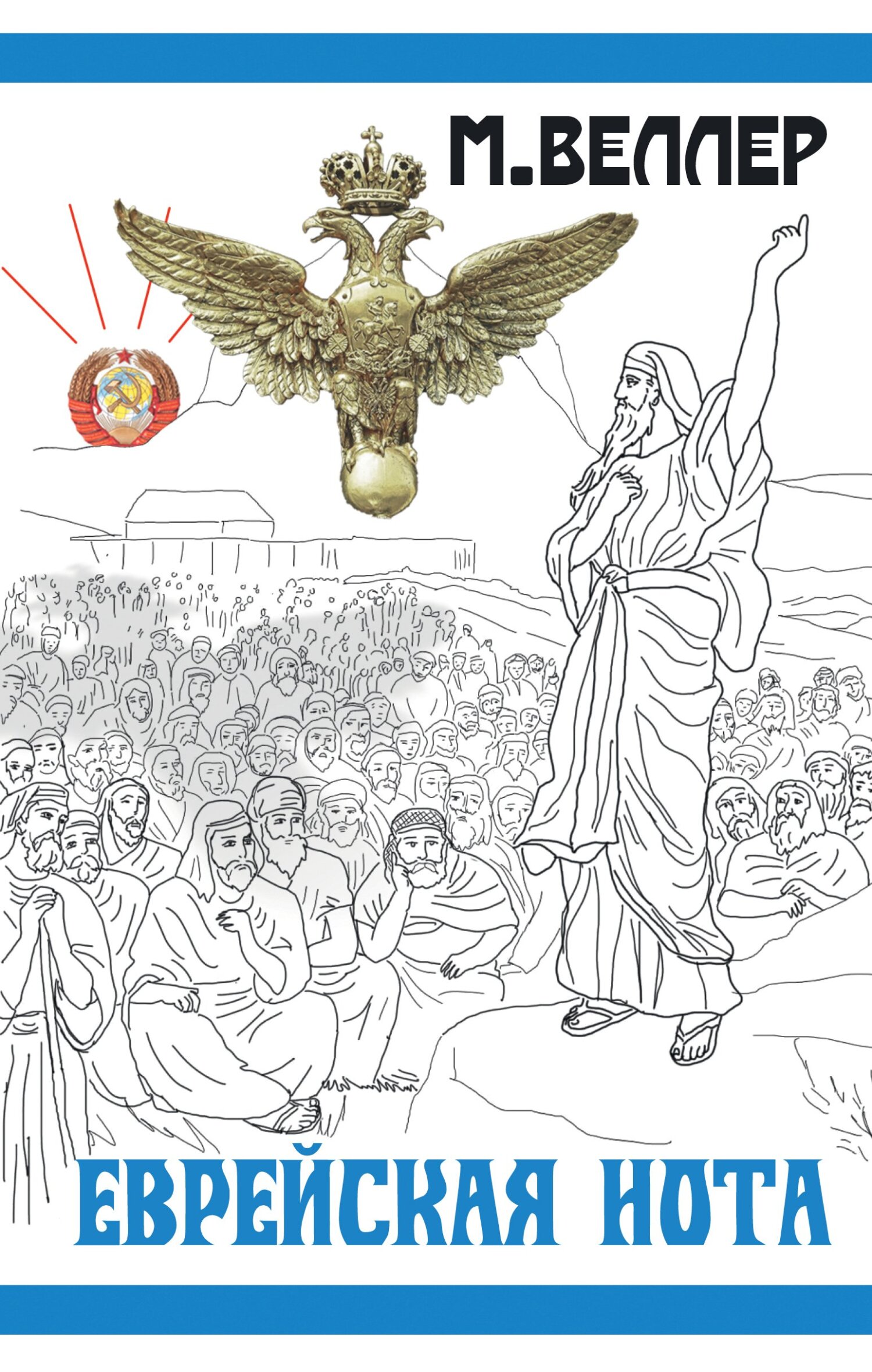class="p1">«Не ищи Хишама. Ищи самого себя».
А что я делаю весь этот день? Разве я не ищу себя? Что я получил взамен своих усилий, кроме усталости?..
Внезапно я вспомнил зеленый холм, где впервые себя отыскал, где впервые растаял снег, облепивший маленький камешек, который я называю «собой». Где исчезли все линии разграничения, отрезавшие меня от свободного, полнокровного мира. Где я стал древнее всякой древности, длительнее всякого настоящего и дальше самого далекого будущего. Там сдалось время, капитулировало пространство, пала ложь всех противоречий и дихотомий; там я понял, что не рождался, не умру, не останусь на своем месте и не покину его. На этом холме кто-то вскрыл глубокий грот с моим – и только моим – сокровищем. Зачем же моей душе убегать от меня? Зачем же этому холму, с его мягкими душистыми травами, превращаться в покрытую терновником пустыню? Не надо закрывать открытый проем, красть блеск моего сокровища, утрамбовывать снегом мой маленький камушек!
А этот Не-Именуемый, начиненный тайнами и загадками, так и переливающимися через края его лучистых глаз, располагает ли он тайной поиска себя? Научит ли он Хишама искусству этого поиска?
Все это – замок с утерянным ключом. Если бы я не открывал этот замок раньше, то не поверил бы в существование ключа, но моя рука лежала на этом ключе, открыла им засовы, а теперь я просто-напросто ищу этот ключ, затерявшийся на просторах моей одиночной камеры. А ʼУмм Зайдан…
Черт! Моя жалкая душонка и Хишам отвлекли меня от беды ʼУмм Зайдан! Как мне найти себя, если я забываю о любимой, дорогой нашей домработнице?..
К счастью – и к моему вящему удивлению, – ʼУмм Зайдан уже стояла на ногах и, обернувшись спиной к кухонной двери, помешивала ложкой что-то в стоящей на огне кастрюле. Я тихонько подкрался к ней сзади, до слез ее напугав. Что ж, такой у меня сегодня день – то сын падает в саду, то из рук ʼУмм Зайдан со звоном выпадает ложка… Впрочем, причитания и слезы старухи быстро сменились нежным, робким укором:
– Вот так ты со мной поступаешь? Где ты был так долго? У ʼАбу Фархата? Но зачем? Уже ночь на дворе, а ты один едешь по ухабам горной дороги… Будь он проклят, этот бес страха! Я навоображала себе кучу всего: сначала аварию, потом – разбойников, избивших тебя и на последнем издыхании оставивших у темной дороги… Глупые, дурные старухи! Их головы ужасно тупы, а сердца слишком мягки! Я не могла справиться с дурными мыслями. К тому же снова пришел тот попрошайка в синем пиджаке. Сначала он расспрашивал о тебе, а потом забрал Хишама на прогулку. Так он мне сказал… Настала ночь, а ни ты, ни Хишам, ни его спутник не возвращаетесь домой. Я сидела тут, как какая-то одинокая сова на ветке… Так что не кори меня, сынок, за плохие мысли. Что этой старой дуре остается-то, кроме дурных мыслей?.. Кстати, как ты смог бесшумно войти в дом? Я не слышала, как хлопнула дверь.
Мое сердце обливалось кровью, пока я слушал робкие причитания ʼУмм Зайдан, этого большого ребенка. Я попытался успокоить ее, разумеется, умолчав о кладе, охотнике, больнице и прокуроре, но в глубине души удивлялся, что она ни слова не сказала о том состоянии, в котором я ее недавно застал. Могла ли она попросту его не заметить? Наверное, так и было, иначе старуха непременно откликнулась бы тогда на свое имя. Я по-прежнему был сбит с толку «прогулкой» Хишама и письмом Не-Именуемого, но решил ничего об этом не рассказывать домработнице. И впрямь, какой выйдет толк из этого рассказа? Она не поймет ни одного слова из письма, еще больше смутится и растеряется…
– Душа моя, ты будешь ужинать? Или подождешь, пока вернется Хишам?
Я знал, что Хишам не вернется, как знал и о том, что ʼУмм Зайдан до сих пор ничего не ела, поэтому ответил:
– Давай поужинаем. Хишам может гулять, сколько ему вздумается.
Как оказалось, знание меня не подвело: аппетит у ʼУмм Зайдан был отменный. Я же только делал вид, что ем. Снедающий меня изнутри голод уж точно не был голодом по хлебу и бульону.
Час двадцать первый
Ужин закончился, а я все отчетливее чувствовал себя сложным механизмом, чьи детали вот-вот разлетятся в разные стороны. Моя голова была полна тумана, усердно стиравшего образы прошлого и настоящего; руки, ноги и язык наотрез отказывались двигаться или слушаться моих перемолотых нервов. Уши безнадежно теряли звуки, а мои веки со скрипом пытались сомкнуться. Я ужасно, прямо-таки смертельно устал, поэтому решил подняться к себе в комнату, строго-настрого запретив ʼУмм Зайдан меня тревожить.
– А Хишам? Я начинаю за него волноваться.
Задней мыслью я уловил раскаяние ʼУмм Зайдан за неосторожно оброненную фразу: она прекрасно видела мое разбитое состояние, чем-то напоминающее состояние алкогольного опьянения. Я и впрямь, словно записной пьянчуга, качался взад-вперед, безуспешно пытаясь отделить друг от друга мигом обесценившиеся слова. «Хишам». «Не-Именуемое». «Руʼйа». «Муса». «Христос». «Мухаммад». «День». «Ночь». «Жизнь». «Смерть». «Вчера». «Сегодня». «Завтра». «Истина». «Ложь». «Рай». «Ад». Сколько разных слов сливались тогда для меня в одном глухом ударе мухи об стекло. Я был разобран по частям, и меня мог спасти один лишь сон. Помню, я рухнул на кровать, даже не раздеваясь.
Не думаю, что я проспал больше часа, но это короткое забытье было прямо-таки заряжено самыми яркими снами и грезами. Один из этих снов до сих пор оживает перед моими глазами во всех своих странных, немного выцветших подробностях.
Итак, я стою у глубокой, полноводной и вместе с тем будто бы неподвижной реки, пропадающей у огромного черного тоннеля. Ни мой глаз, ни мое ухо, ни мое воображение не могут ответить на обыденный, казалось бы, вопрос о длине реки, ее истоках и устье. К берегу меня каким-то чудом приволок незнакомец – наполовину белый, наполовину черный мужчина, сейчас он сидит рядом, прислонив ко мне белую половину своего могучего туловища.
На зеркальной глади реки толпятся лодки и баржи разных цветов и размеров, они незаметно вместе с рекой подкрадываются к тоннелю, в котором затем пропадают. Поймав мой вопросительный взгляд, бело-черный мудрец терпеливо поясняет:
– Я привел тебя сюда для того, чтобы показать вечные похороны.
Первое, что я вижу, – это огромная усыпанная цветами и украшенная знаменами баржа, переливающаяся золотом и серебром в свете полуденного солнца. На ее борту танцуют женщины и мужчины, купающиеся в музыке, что, кажется, усмирила