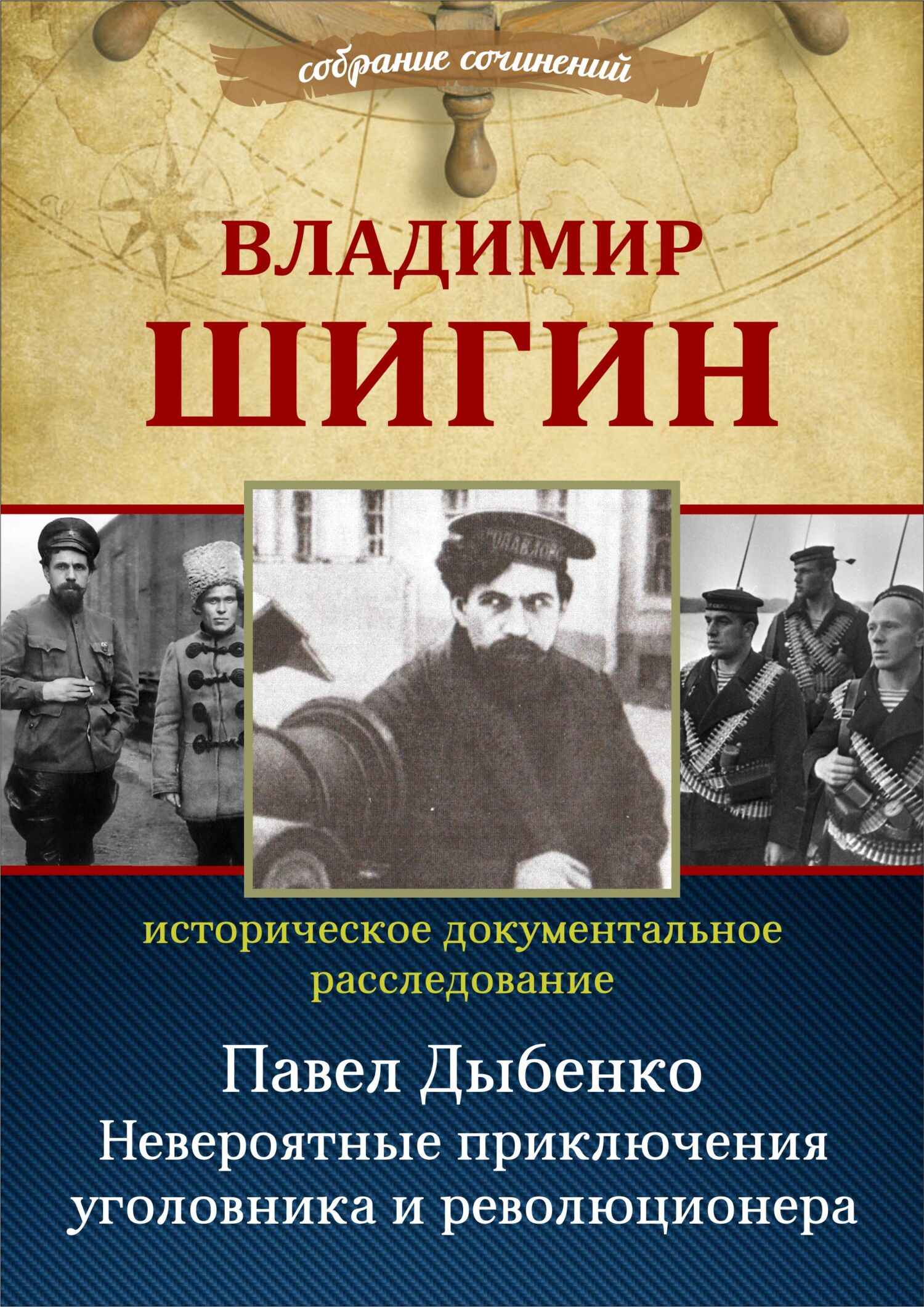направлении Раниловича, куда предполагалось направить партизанский отряд.
— Где вы встретились с четниками? — спросил комиссар, испытующе глядя на бойца.
— Да они везде, товарищ комиссар! Куда ни ступишь ногой — всюду натыкаешься на их бараньи папахи.
Шумадинец расстегнул ремень, бросил его на стол и опустился на скамейку.
— А где другие твои разведчики? — спросил он после небольшой паузы.
Старший патруля сокрушенно развел руками.
— Вот, видишь, — он приподнял винтовку, что была у него в руке, — это все, что от них осталось. Мы попали к четникам едва ли не в самые лапы. Они нас преследовали от самого Ралинского Глоговца. Хотели мы было замести следы, повернув на Венчан, а там четники и недичевцы прочесывали местность. Двинулись к Дрлупе, а там их еще больше. Только мне одному и удалось уйти. Как видишь, всюду, куда бы мы ни направлялись, они нас уже ждали. Сжимают нас со всех сторон, сжимают так, что не шевельнешься.
— Ну раз они нас, то и мы их сожмем, — попытался улыбнуться комиссар, но улыбка не получилась. — Как думаешь, собираются они снова атаковать нас? — спросил он.
— Трудно сказать что-либо определенное. По всей вероятности, готовятся к этому, раз столько войск нагнали.
Доклад разведчика лег камнем на сердце Шумадинца. Он долго расхаживал по комнате, размышляя над сложившейся обстановкой. Хотя он сильно устал, спать ему не хотелось. Несколько раз он выходил на улицу, прислушивался, не слышно ли стрельбы. Больше всего его волновал вопрос о том, не узнали ли четники о плане отхода отряда. Так или иначе у партизан все равно остается лишь два пути: или через лощину, где их уже ждут четники, или через гору Космай, но в этом случае придется оставить на произвол судьбы беженцев. Из двух зол надо было выбрать меньшее.
Комиссар сел на скамейку, устало опустил голову на скрещенные руки и закрыл глаза. «Что делать? — думал он. — Выдержит ли отряд, если четники перейдут в наступление? Или не ждать этого, а заранее сняться с якоря, поднять паруса, и незаметно выскользнуть из мышеловки? Затем дождаться возвращения Лабуда и начать пробиваться в Санджак мелкими группами».
Наиболее сложной была проблема беженцев. С каждым днем они все больше затрудняли деятельность отряда, снижали его маневренность и боевые возможности. Вопрос о беженцах неоднократно обсуждался на партийных собраниях, но единства среди коммунистов не было. Одни считали, что беженцы должны вернуться по домам, другие решительно возражали.
Шумадинец считал своим долгом заботиться о беженцах так же, как и о бойцах: помогал им доставать продовольствие, размещаться на отдых, организовывал их охрану на марше, приказал выделить им одного медика и лекарства. Но он понимал, что эта проблема требует кардинального решения. После долгих и трудных дискуссий ему удалось добиться принятия партийным собранием решения об отправке части беженцев по домам. Но беженцы отказались подчиниться. Они заявили, что готовы терпеливо переносить любые муки, голод и холод, лишь бы не возвращаться к своим разрушенным очагам. У большинства беженцев были близкие родственники среди партизан.
Чтобы окончательно решить этот вопрос, а следовательно, и судьбу всего отряда, Шумадинец распорядился срочно созвать на совещание комиссаров и командиров рот.
В ожидании их Шумадинец стоял у окна, вглядываясь в белеющий снег. «Как-то дела у Лабуда?» — подумал он. По его расчету, группа должна была уже быть на подходе к цели. Комиссар отчетливо представил, как под покровом ночи крадутся партизаны к виадуку по хрустящему снегу.
Дверь в комнату непрерывно открывалась и закрывалась. Через двадцать минут все были в сборе, за исключением Джордже Вишнича, рота которого располагалась дальше всех — в двух километрах от штаба отряда. В полумраке, царившем в комнате, лица людей почти не были видны. Некоторые уже требовали начинать совещание, но Шумадинец не спешил, ожидая прихода Вишнича, которого считал своим единомышленником в вопросе о беженцах.
Вишнич влетел в комнату словно ветер, немного запыхавшись. Было видно, что он очень спешил. Это был еще молодой человек, крепкого сложения, аккуратно и опрятно одетый. Не было случая, чтобы он позволил себе остаться небритым. Даже в самой тяжелой обстановке он находил время следить за своим внешним видом. Такой же опрятности и порядка он требовал от своих бойцов. В нем счастливо сочетались огромная физическая сила и беспредельная храбрость, командирская суровость и отеческая забота о подчиненных. Бойцы роты любили его как родного брата, но и боялись, как строгого старшины. Еще до войны Вишнич прошел хорошую военную подготовку: он служил подофицером в гвардейской части. В партизанах, учитывая его опыт, ему сразу доверили командовать ротой.
Джордже Вишнич был фантазер и мечтатель. Бойцы с удовольствием слушали его рассказы о несуществующих землях или о странах, о которых они раньше ничего не знали. Они удивлялись тому, как много имен писателей, художников и скульпторов упоминал их командир, словно он провел не один день вместе с ними. Джордже любил конные скачки, соревнования, был знаком с футболистами и боксерами. Боксом он даже сам одно время занимался. «Коммунистам я никогда не симпатизировал, — чистосердечно признавался он, — и пришел в партизаны ради мести кровопийцам. После апрельской катастрофы мне, как военному, стыдно было людям в глаза смотреть. Стал избегать друзей и знакомых, временами даже сожалел, что не погиб на войне. Не зря говорят: «Лучше геройская смерть, чем трусливая жизнь». Особенно мерзко себя чувствовал, когда приходилось на улице уступать дорогу оккупантам и их прислужникам. Поэтому, как только услышал о восстании, сразу помчался на Космай. Меня не интересовало, какая партия поднимает восстание, для меня было важно одно: против кого оно направлено. Всякая партия хороша, если она за народ».
Вишнич быстро доказал свою преданность идеалам освободительной борьбы. Хорошее знание военного дела еще больше повышало его авторитет в отряде.
Взяв слово, Шумадинец старался говорить как можно спокойнее. Его слушали внимательно. Собравшиеся знали, что комиссару приходилось работать и за командира, так как Окружной комитет партии так и не выполнил своего обещания прислать замену Аксентичу.
Единственным источником света в компасе был огонь в печке, дверца которой была открыта. Все сидели молча, подавленные тревогой за судьбу беженцев. Неожиданно загорланили полуночные петухи, и люди сразу оживились; кто-то сладко зевнул, словно проспал все совещание.
— Так что же, товарищи, — первым взял слово после комиссара Джордже Вишнич, — а комиссар-то прав. Если сегодня ночью не уйдем, завтра будет поздно. В моей роте боеприпасов осталось по десять патронов на винтовку и по сто — на автомат.
— У других еще хуже. У меня, например, по шесть патронов на винтовку, — поддержал Вишнича голос из угла комнаты.