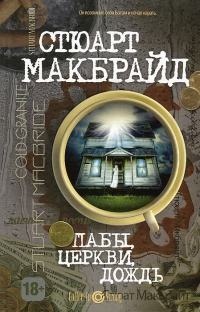такой робкий человек может вести бизнес. «С другой стороны, – думал он, – я еще не видел ее в деле. Может, она как я. На работе деловая, суровая и жесткая, но дома, по ночам, плачется звездам о любви и компаньоне».
«А может, я болван, – подумал он горько. – Просто изнывающее сердце – в целом городе изнывающих сердец. Да уж».
Он свернул на съезд, на шоссе Рузвельта, потом пролетел по восточной стороне Манхэттена к Бруклинскому мосту. Ему нравилось водить. В это время мысли могли блуждать, а замешательство – утихнуть. Было еще только полпятого, дороги оставались свободными. Он включил радио, и музыка вернула его к реальности. Он окинул взглядом Ист-Ривер, посмотрел на череду идущих баржей. Кое-какие он знал. Одни ходили с честными капитанами, которые гнушались черным товаром. Не возьмут на борт краденое колесо, даже если выложишь тысячу баксов. Другими командовали бестолковые идиоты, которые выкинут все принципы в окошко по цене чашки кофе. Первый тип – честные до неприличия. Просто не могут иначе. Второй тип – прирожденные мошенники.
«Кто из них я? – спросил он себя. – Хороший я или плохой?» – думал он, лавируя на дороге в «линкольне». Подумал о том, чтобы вовсе выйти из игры. Давняя мечта. Накопил он достаточно. Достаточно на жизнь. Ведь этого хотел папаня, верно? Можно продать два доходных дома в Бенсонхерсте, сбыть вагон Рэю с Кони-Айленда и уйти раз и навсегда. «И чем заняться? Работать в пекарне?» Самому не верилось, что его посетила эта мысль. Дочка Губернатора его еще толком и не знает, а он уже навострился к ней на кухню. Элефанти представил себя через десять лет: толстый муженек в поварской форме, раскатывает в три утра тесто и ставит в печку.
С другой стороны, в чем смысл жизни? Семья. Любовь. Эта женщина беспокоится о своем отце. Предана семье. Он понимал ее чувство. Оно немало о ней говорило.
Перед уходом он перебросился с ней парой слов. После их беседы Губернатор заснул на диване, и Элефанти спустился один. Она направлялась наверх к отцу и столкнулась с ним. Видимо, услышала, как он уходит, и решила проведать старика. Так бы поступил он сам. Проверить, что отец еще дышит, убедиться, что незнакомец – не какой-нибудь бандюган из прошлых лет, заявившийся свести счеты. Это тоже много говорило о ней. Застенчивая, но явно не чересчур и не глупая. И не из пугливых.
Они встретились в прихожей у двери. Проговорили минут двадцать. Она тут же раскрылась и разоткровенничалась. Ему доверял ее отец. А значит, доверяла и она.
– Я справляюсь, – ответила она на вопрос, каково руководить пекарней в одиночку. Он пошутил насчет того, как она ворвалась в комнату с ведром и шваброй наголо, будто с копьем. Она рассмеялась и ответила: – А, вы об этом. Просто папочка у себя убирается как детсадовец.
– Ну, он уже свое отработал.
– Да, но он оставляет после себя такой бардак и отключается так легко.
– У меня легкие отключаются, когда я автобус догоняю.
Она снова рассмеялась и раскрылась еще больше, и последовавший разговор доказал, что за нежной внешностью прячутся качества в духе ее отца: жизнерадостность, юмор, но с твердостью и остроумием, которые показались Элефанти привлекательными. Они легко нашли общий язык. Она знала, что он пришел по важному делу. Знала, что их отцы были близкими друзьями. И все же он замечал осторожность. Аккуратно ее прощупывал. Такая у него работа, с горечью думал он, – работа чертова контрабандиста среди презренных наркодилеров вроде Джо Пека и убийц вроде Вика Горвино: находить чужие слабости. Тогда же он почувствовал, как и она прощупывает его. Чувствовал, как она его просчитывает и надавливает – аккуратно – ради информации. Как он ни старался, а не смог сдержаться, не смог помешать ей разглядеть ту частичку, какую никогда не видело большинство: хоть он тверд и суров внешне и с ним не забалуешь, – может, даже чересчур итальянец в манерах и речи, – внутри он все же несет тяжкий груз ответственности за свою мать и за тех, о ком переживает с той добротой, которую безопаснее скрывать. Ему доверял ее отец. Но почему ему? Почему не брату или свату? Или хотя бы ирландцу? Почему итальянцу? За эти двадцать минут разгорелась война народов между итальянцами и ирландцами, между двумя представителями черных душ Европы, коих оставили ни с чем англичане, французы, немцы, а затем в Америке – большие шишки Манхэттена, евреи, уже забывшие, что они евреи, ирландцы, забывшие, что они ирландцы, англосаксы, забывшие, что они люди, которые на своих собраниях сверхдержав обсуждают будущее и делают деньги, замостили ничтожеств в Бронксе и Бруклине, проложив шоссе и выпотрошив их районы, бросили их на произвол первого пришедшего, эти большие шишки, которые забыли про войну, погромы и жизни тех, кто пережил Первую и Вторую мировые войны, жертвуя кровью и кишками ради их Америки, чтобы они теперь били по рукам с банками, мэрией и штатом и прорубали магистрали посреди процветающих кварталов да пинками гнали в пригороды бессильных обормотов, поверивших в американскую мечту, – и все потому что им, большим шишкам, нужен процент пожирнее. Все это почувствовал Элефанти – или думал, что почувствовал, – стоя с ней у двери. Возникла связь – у мужчины, чей отец скончался, и женщины, чей отец скончается со дня на день, – возникло желание найти свое место, пока они стояли в той теплой прихожей: она – в своем деревенском платье, с работой, оплачивавшей налоги и не привлекавшей копов, Джо Пеков и непростые звонки от непростых людей, которые одной рукой лезут тебе в карман, а второй – отдают честь флагу; и он – ощутивший себя на своем месте, чего не бывало с ним уже годами.
Она легко смеялась, задавала вопросы, забыв о стеснительности, а он молча кивал. Она проговорила все двадцать минут, как будто промелькнувших за секунды, и все это время ему хотелось крикнуть: «Это я морской котик на пляже. Если б ты только узнала меня поближе». Но вместо того оставался покладистым и твердым, вполсилы отмахиваясь от вопросов, притворившись замкнутым и недоверчивым. Она видела его насквозь, он это понимал. Видела ясно. Он чувствовал себя голым. Ей хотелось знать, зачем он приходил. Ей хотелось знать все.
Но знать ей было нельзя.
Так они уговорились. Он, конечно же, согласился на сумасбродный план Губернатора. Отчасти потому, что любил своего отца. Самые сильные чувства отца, как он знал, были связаны с доверием. Любой, кому доверял отец, не мог не быть любящим и хорошим человеком. Никаких сомнений. Если Гвидо Элефанти дал слово тому, кому доверял, то уже его не нарушал. И не заботился о