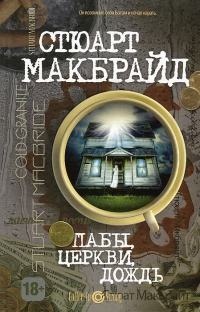рук». Сказала, дескать, не смогла дозвониться до меня, чтобы спросить разрешения. Просто взяла и согласилась. Купила все чертово здание с потрохами. На мою заначку.
Он улыбнулся воспоминанию.
– Рассказала мне об этом в зале для посетителей. Уж я ей устроил. Так вспылил, что охранникам пришлось меня заковать, чтоб я ей шею не свернул. Прошло несколько недель, прежде чем она мне хотя бы написала. А что мне оставалось? Я сижу в каталажке. Она просаживает все наши деньги до пенни – на бейглы. Я был потрясен. Зол как черт.
Он с тоскливым видом уставился в потолок.
– А твоему отцу смешно было. Сказал: «Это разве деньги на ветер?» Я ему: «А мне почем знать? Там сплошь ниггеры и итальяшки».
Он мне: «Они тоже едят бейглы. Напиши жене и извинись».
Я написал, видит бог, и она меня простила. И я по сей день благодарю ее за то, что она купила это место. Благодарил бы. Будь она здесь.
– Когда она скончалась?
– А, уже… я и со счета сбился. – Он вздохнул, потом тихо затянул:
Двадцать лет растем,
Двадцать лет цветем,
Двадцать угасаем,
Двадцать умираем.
Элефанти заметил, что смягчился, – смягчилась та внутренняя частичка, которую он никогда не показывал миру, которая ослабла, когда вошла со шваброй дочь старика.
– Значит, после этого у тебя осталась чистая совесть? Или только дурные воспоминания?
Губернатор еще недолго таращился в потолок. Казалось, его взгляд прикован к чему-то далекому.
– Она дожила до того, чтобы встретить меня из тюрьмы. Они с моей Мелиссой построили целый бизнес, пока я сидел. Через три года после того, как я вышел, жена заболела, а теперь я и сам малехо занемог.
«Занемог?» – подумал Элефанти. Да судя по виду, старик был готов в любой момент двинуть кони.
– К счастью, Мелисса готова продолжить дело, – сказал Губернатор. – Хорошая девица. С ней бизнес полетит. Мне с ней повезло.
– Тем больше причин не втягивать ее в неприятности.
– Потому и появился ты, Сесил.
Слон кивнул, чувствуя себя неловко. Это имя застало его врасплох. Так его не называли много лет. «Сесил» – детское прозвище от отца. На самом деле его звали Томмазо, или Томас. Свое второе имя он перенял у отца. «Сесил» – отцовская выдумка. Откуда это имя взялось и почему папаша его выбрал, Слон так и не узнал. Это было не просто ласкательное прозвище; это был знак, что отцу и сыну нужно поговорить наедине. В свой последний год папаня, все еще занимаясь делами, не вставал с постели, и в спальне часто бывали люди – те, кто работал в вагоне, на стройках и на складе. Когда старик говорил «Сесил», это означало важное дело, частное и что его нужно обсудить, когда все уйдут. То, что Губернатор знал об этом имени, еще больше доказывало надежность ирландца – а также, угрюмо думал Элефанти, налагало ответственность. Ему не хотелось нести ответственность за этого старикана. Ему хватало своей.
Губернатор долго разглядывал Слона, потом поддался своей усталости. Сдвинулся, положил ноги на диван и вытянулся, опустив руку на лоб. Вторую поднял и показал пальцем на стол за спиной Элефанти.
– Передай со стола ручку и бумагу, будь так добр. Они на видном месте.
Элефанти подчинился. Губернатор что-то черкнул, сложил листок и вернул Элефанти.
– Пока не открывай, – сказал он.
– Мне за тебя еще и бюллетени на выборах вбросить?
Старик улыбнулся.
– Смотри на меня и учись, что бывает в нашей игре с такими старперами, как я. К твоему сведению, со временем устаешь. Твой отец это понимал.
– Расскажи о моем папане, – сказал Элефанти. – О чем он любил поговорить?
– Пытаешься меня подловить, – тихо рассмеялся ирландец. – Твой отец играл в шашки и говорил шесть слов в день. Но если и говорил, то пять из них были о тебе.
– Эту сторону он мне нечасто показывал, – сказал Элефанти. – Из тюрьмы он вернулся уже после инфаркта. Так что говорил с трудом. Много времени проводил в постели. В те дни он не жил, а выживал. Поддерживал дела в вагоне, работал на семь… – Он осекся. – Работал на клиентов.
Губернатор кивнул.
– Сам я никогда не работал на Пять семей.
– Почему нет?
– Истинный ирландец знает, что однажды мир разобьет тебе сердце.
– Это что значит?
– Мне нравится дышать, сынок. Многих моих знакомых, работавших на семьи, через финишную черту перетаскивали по кускам. Твой отец – из редких людей, кто умер в постели.
– Он никогда не доверял им до конца, – сказал Элефанти.
– Почему?
– Много почему. Мы с севера Италии. Они – с юга. Я был молодой и глупый. Он не верил, что я долго протяну, когда меня примут в семью. Так что отвлекал работой в доке. Отдавал приказы. Я им следовал. Так у нас было заведено. И до тюрьмы, и после. Он был кукловодом, я – куклой. Работать в вагоне, перевозить товар, доставить туда, доставить сюда, припрятать это, дать на лапу такому, дать на лапу сякому. Сполна платить своим. Держать рот на замке. Вот и вся премудрость. Но он всегда одной ногой стоял в других областях: стройка, ростовщичество понемногу, даже какое-то время садоводство. У нас всегда имелись интересы на стороне.
– У вас имелись другие интересы, потому что твой отец не доверял семьям.
– Доверял. Просто проверял.
– Потому что?..
– Потому что тому, кто не доверяет сам, доверять нельзя.
Губернатор улыбнулся.
– Вот почему ты тот, кто нужен для работы.
Он лежал с таким довольным видом, что Элефанти не выдержал:
– Если готовишь очередную песню, то не старайся. Я всю дорогу в машине слушал по радио кузена Брюси. Он ставил Фрэнки Валли. Лучше него не поет никто.
Старик посмеялся, потом поднял хрупкую руку и показал на бумажку в кулаке Элефанти.
– Читай.
Элефанти развернул листок и прочел: «Тому, кто не доверяет сам, доверять нельзя».
– Я хорошо знал твоего отца, – серьезно сказал Губернатор. – Так, как никого не знал.
Элефанти не придумал, что ответить.
– А вот теперь я спою, – бодро добавил Губернатор. – Причем лучше Фрэнки Валли.
И рассказал все.
* * *
Когда тем вечером Элефанти на своем «линкольне» ехал домой через Мэйджор-Диган, все еще со сложенной бумажкой в кармане рубашки, у него кружилась голова. Он думал не о том, что поведал Губернатор, а о женщине сельского вида, которая вошла и тут же ретировалась с извинениями. Скромная красивая ирландка. Свежа, как весна. По его подсчетам, помоложе его, тридцать пять или около того, не слишком стара для брака. Она казалась чересчур скромной – он удивлялся, как