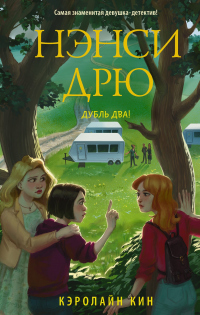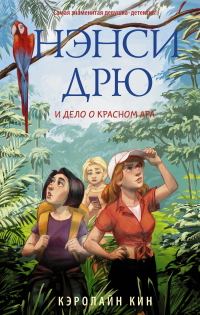Пронзительней рассвет, пронизанный слезами,С тоской во тьме зрачка соцветья глаз синей[10].
– Чем что?
– Это значит, что твои глаза ещё красивее, когда плачут.
– Ну, это уже чушь какая-то. Мне не нравится мысль, что мы особенно красивы, когда нам плохо.
– Ты права, дурацкая мысль вообще-то. – Он выпрямляется в своём кресле. – Но ты не волнуйся, – шепчет он, – когда ты счастлива, они тоже красивые. Как и у моей сестры, и у Астрид. Шесть солнечных лучей. Посмотрите, что вы сделали за эти дни… Вы же всё на своём пути осветили. Согрели людям сердца. Красиво, некрасиво – такая чушь рядом с этим.
– Ну, в чём-то, может, и так.
– Да во многом. Глянь-ка, из глаз больше не течёт. Быстро прошёл твой насморк.
– О, это был крохотный насморчонок. Но я устала. Я, может, вернусь в гостиницу, или в Бурк-ан-Брес, или в утробу. А еноты впадают в спячку?
– Лучше выпей эспрессо, – советует Солнце.
В паре метров от нас человек-пингвин с портативной кофеваркой предлагает гостям на выбор целый арсенал разноцветных пакетиков с кофе, будто художник с палитрой. Я наугад тыкаю в золотистый.
Давай, до дна.
Крепкий кофе зверски дерёт горло.
– Лучше? – спрашивает Солнце.
– Да. Лучше.
И правда, мне лучше. Мозг любезно готовит коктейль из всех проглоченных мною за двадцать минут возбудителей, и мне уже лучше.
– А где Астрид?
– Там, она в полном экстазе.
Без сомнения, это лучший день в жизни Астрид. Она стоит в своём длинном платье, красная как помидор, и весело треплется с тощим мужичком в годах с причёской как у Соника.
– Это солист «Индокитая», – поясняет Солнце.
– Можно было догадаться. Она фоткалась с ним?
– Раз десять. Ещё попросила его подписать футболку.
– Бедолага…
Но не похоже, чтобы бедолаге так уж надоела одержимая шестнадцатилетняя фанатка, прилипшая к нему на елисейском приёме.
Наоборот, он беседует с ней, искренне улыбается. И даже знакомит её с какими-то другими мужиками – видимо, музыкантами их группы. Но самое удивительное, что она тут же не падает замертво, а здоровается, болтает дальше, лицо красное, как у индейских скво, волосы цвета соломы.
Думаю, появись сейчас откуда-нибудь её шведский папаша, она бы и не заметила.
– Ну хоть одна хорошо проводит время.
– Мгм, – хмыкает Солнце.
– Ну а ты? Ты уже видел…
– Да.
Догадываюсь, что Солнце уже давно его заметил. Он здесь, в военном мундире, стоит с женой у кустов. Он ест, пьёт и травит байки с другими военными и каким-то знакомым чуваком, министром, наверное. И весь сверкает орденами.
– Что думаешь делать? – шепчу я Солнцу.
– Что я думаю делать… Смешная ты.
– Заговоришь с ним?
– И что ты хочешь, чтобы я ему сказал?
– А ты не будешь… срывать с него медаль или?..
Он возводит глаза к небу:
– Срывать медаль! Глупости это всё. Мальчишество. Это звучит, когда сидишь в Бурк-ан-Бресе и плачешься про свою судьбу, но не в саду Елисейского дворца.
Ответ застревает у меня в горле: появляется Клаус. Он смешивается с толпой, приветствует гостей. Подходит к компании генерала Шегуба. Они шутят. Прикалываются, вместе. Клаус делает вид, что хочет стащить его орден Почётного легиона, а Шегуб целится ему пальцем в висок. Им весело, им так весело!
– А где Хакима? – шепчет Солнце как в трансе.
Мы оглядываемся вокруг: Хакимы нет.
И вдруг она появляется.
И, появившись, подходит – взаправду! – к компании Шегуба.
– Да что она творит? – Солнце вытягивается в коляске.