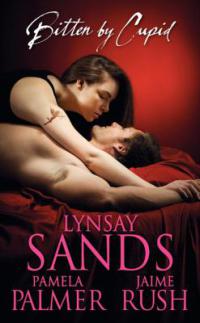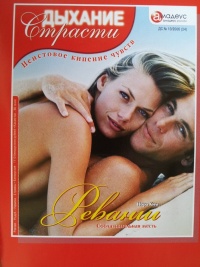Ты был и добр, и сердцем чист, Чем мог, ты сирым помогал, Как солнце, был твой взор лучист, Но выстрел жизнь твою прервал. И в тот же час убийцу ты простил, И херувим в чертоги райские тебя повлек, А тот, кто грех смертоубийства совершил, Пропал в геенне огненной навек.
«Боже мой! — подумал Никита. — Ведь здесь нет ни слова правды! И это всем известно. Почему же они молчат?»
Храм потихоньку пустел. Делая скорбные лица, присутствующие торопились к своим коляскам, чтобы успеть занять лучшие места на поминках. Приглашали и игумена, но тот, сославшись на монастырский устав, отказался. Вскоре в соборе не осталось никого, кроме Никиты и молодого послушника, тушившего лампады. Никита собрался идти в свою келью, но тут его окликнули из глубины храма. По голосу он узнал отца Артемия — настоятеля монастыря.
Когда Никита приблизился, он протянул ему несколько крупных ассигнаций.
— Сходи-ка в город, в суконную лавку, и купи черной ткани на подрясники. А то братия изрядно поистрепалась. А тут как раз перепало от щедрот благочестивого Феодора, — сказал он с улыбкой.
Никита смотрел на протянутые ему стареньким игуменом деньги и никак не решался их взять.
— Ну, бери же, что ты, — нетерпеливо сказал отец Артемий. Потом внимательно посмотрел Никите в глаза и опустил руку с деньгами.
— А-а, понимаю, понимаю. Боишься оскверниться…
Никита опустил голову.
— Осуждаешь меня, старика? — продолжал игумен.
Никита отрицательно покачал головой.
— Вижу, что осуждаешь… Да не ты один. Вон, половина иноков косо смотрит.
Он взял Никиту под руку, и они медленно пошли к выходу из храма.
— Значит, по твоему разумению, чести быть похороненным в храме не всякий заслуживает?
— Нет, батюшка, — сказал Никита.
— Я должен был воспротивиться?
— Да.
— А как же быть с тем, что надо прощать грешников? И даже врагов? А? Евангелие-то читаешь?
— Читаю…
— Господь и не таких прощал. Чего уж о нас, грешных, говорить… И потом, кто знает, кто более грешен — я, ты или он?
Они как раз подошли к могиле Грымова.
— Но, отец Артемий, — сказал Никита, — ведь по его вине столько людей по миру пошло! А те, что руки на себя наложили? И разве не он, Федор Грымов, за это отвечать должен?
— «Мне отмщение и аз воздам», — процитировал отец Артемий. — Ты не беспокойся, Никитушка, каждый сам за свои грехи ответит. Там, — он показал указательным пальцем вверх, — никогда не ошибаются. Так что, займись-ка ты лучше своими делами. И, кстати, не забывай молиться за «убиенного Феодора».
Лицо Никиты вспыхнуло.
— Не буду я за него молиться!
Отец Артемий сокрушенно покачал головой.
— Эх, Никита, Никита… Опять Святое Благовествование забыл. А что там сказано? «Молитесь за врагов своих». И еще: «Врач более больному нужен, чем здоровому». Что это значит?
Никита молчал.
— Вот если ты, например, — продолжал игумен, — жестокосердие свое преодолеешь и начнешь имя его в ежедневных молитвах поминать, еще из братии нашей кто-нибудь найдется, старушка-богомолка посмотрит на надгробие и записочку на панихиду подаст, да вдова, нет-нет, молебен закажет… А там, может быть, Господь эти молитвы и услышит. И пожалеет заблудшую его душу… А? Как считаешь?
— Ну-у… Не знаю, — задумчиво сказал Никита.
— Но ведь все, что тут написано, — он кивнул на эпитафию, — все ложь!
Отец Артемий достал из кармана старые, видавшие виды, монашеские четки.
— За ложь тоже каждый ответит. Как и за плохие стихи. В конце концов, это что? Просто слова. Пройдет каких-нибудь сто лет, и эти буквы изотрутся под ногами богомольцев, и никто их уже не разберет. А молитва, Никитушка, она просто так не пропадает. Она потом обязательно зачтется.
Никита упрямо покачал головой.
— Что же это, отец Артемий, получается? Ведь если всех прощать — и убийцу, и прелюбодея, и богохульника, и татя — тогда надо все суды и тюрьмы закрыть! Пускай себе разгуливают на свободе. А мы будем только молиться за них. А мы их еще с почестями похороним. И еще… денежки получим.
Никита ожидал, что игумен рассердится на него за последние слова, но тот только в задумчивости перебирал четки, глядя на надгробие Грымова. Потом тихо сказал:
— Молодость… Я в твои годы тоже правду искал… А правда-то, она перед носом была всегда, только руку протяни…
Он глубоко вздохнул.
— Ты думаешь, Никита, мне было сладко соглашаться на это? Да у меня все внутри переворачивалось… А что делать было? Пришлось смириться. А смирение — первейшая христианская добродетель.