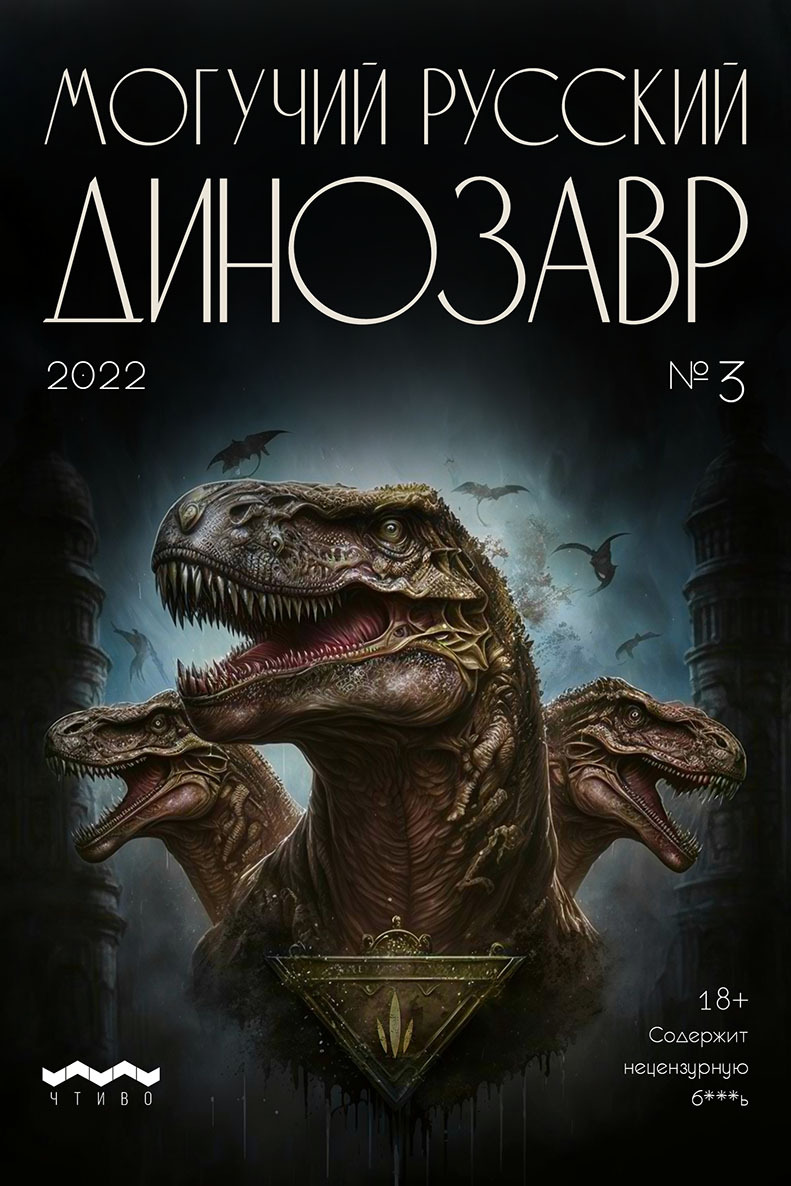я словно просыпаюсь. Как будто все, начиная с морга, мне приснилось, привиделось в бреду, а теперь я вернулась в свое тело, кипящее от злости.
– Не она одна. – Я подаюсь вперед, упираясь в стол. – Кэтрин? Та девушка? И ты стоишь тут как ни в чем не бывало, как будто это не ты врала мне в лицо.
– Я делала это по просьбе твоей матери, – говорит бабушка. – Я готова на все ради семьи. Особенно для того, чтобы защитить тебя.
Я смотрю на нее разинув рот. Разве это может быть правдой? И почему, почему эти слова все еще так много для меня значат – после всего, что я здесь видела?
Бабушка выпрямляется, отряхивает ладони о джинсы.
– Да, кстати, – говорит она. – Я хочу тебе кое-что показать.
Что ж, какой-никакой шанс получить ответы. Бабушка приводит меня на лестничную площадку и опускает шаткую лестницу, ведущую на чердак, такую узкую, что даже один человек поместится с трудом.
– Наверх? – неуверенно спрашиваю я.
– Прошу, – она с улыбкой делает приглашающий жест.
– Хорошо. – Я улыбаюсь ей в ответ и осторожно поднимаюсь на несколько ступенек. Лестница скрипит под ногами, темнота струится с чердака и оплетает лодыжки. На мгновение мне представляется, как бабушка захлопывает люк и запирает меня наверху.
– Там есть свет? – спрашиваю я, притормаживая на одной из ступеней.
– Выше, – кивает бабушка. Я лезу дальше.
Выше и выше, ступень за ступенью. Наконец я оказываюсь на чердаке и медленно прохожу вперед, ожидая, что подо мной вот-вот провалится пол. На лестнице раздаются бабушкины шаги. У меня вырывается крошечный вздох облегчения.
– Вот, – наконец звучит ее голос у меня за спиной, и я слышу щелчок. Свет от голой лампочки под потолком разбегается во все стороны. Над головой у нас деревянные перекрытия и кровельные листы; стены обшиты вагонкой, из-под которой проглядывает утеплитель.
Передо мной стоит книжный шкаф, почти пустой, не считая стопки детских книжек на нижней полке. Рядом со шкафом три мусорных мешка с одеждой, судя по рукаву куртки, который выглядывает из ближайшего ко мне.
Бабушка берет меня за локоть и разворачивает в противоположную сторону.
– Вон там.
В дальнюю часть чердака свет лампочки почти не попадает, но его достаточно, чтобы разглядеть у стены несколько составленных друг на друга коробок. Некоторые отсырели и заплесневели, некоторые доверху засыпаны скомканными газетами. Бабушка спускает на пол одну из коробок. Я вздрагиваю: из дыры в картоне выскакивает мышь и растворяется в темноте.
– Что там? – спрашиваю я, пока она перебирает содержимое.
– Вещи Джо и Кэтрин, – говорит она глухо. Я заглядываю ей через плечо в надежде что-нибудь разглядеть.
Наконец бабушка выпрямляется и достает из коробки какую-то вещь.
– Вот.
В руках она держит платье со строгим воротничком и длинными рукавами с кружевными манжетами. Похоже на то, что было на девушке в поле, и на те, что я нашла в комоде, старомодные и слишком строгие для такого городишки, как Фален.
Выходит, то платье тоже с чердака?
Еще вчера я бы назвала это доказательством того, что мертвая девушка жила в Фэрхейвене и бабушка скрывала от всех ее существование. Теперь я понимаю, что все не так просто. Чтобы вытянуть из бабушки правду, этого недостаточно.
– Ага, – говорю я медленно. – Ты хотела показать мне платье?
– Это платье твоей мамы, – говорит она. – Как и многие из этих вещей. Она оставила почти все, когда уезжала. – Бабушка поворачивается ко мне и наклоняет голову набок. – Чуть не оставила тебя.
Меня как будто бьет током. И неважно, что я размышляла об этом всю жизнь. Никто и никогда раньше не произносил эти слова вслух.
– Но не оставила, – говорю я, когда ко мне возвращается способность дышать.
– А как же иначе? – Она подходит ближе с платьем в руках. Я оцепенело замираю, когда она прикладывает его к моим плечам, разглаживает воротник, задержав пальцы на шее. – Ну что за красота.
Красота? Бабушка со стопкой одежды и девушка, которую она наряжает в эту одежду, а потом отправляет в поля умирать, – еще вчера это было абстрактной идеей, которую я могла повертеть в голове и отложить в сторону. Теперь я ясно вижу, как они стоят вдвоем на чердаке, и мягкие руки бабушки касаются щек этой девушки. И может быть, это не бабушка устроила пожар, может быть, не бабушка решила поставить точку, но только что я лишилась последней надежды на счастливое неведение. Не уверена, что она вообще у меня была.
– Даже не знаю, – нервно говорю я.
– Так примерь.
– Да нет, зачем…
– Примерь. – В ее голосе прорезаются жесткие интонации. – Я настаиваю.
Я озираюсь по сторонам, и, хотя чердак раскален от летнего зноя, кожа покрывается мурашками.
– Ладно, я пойду к себе и…
– Чепуха. – Она расстегивает на платье молнию и протягивает его мне. – Я твоя бабушка. Нашла кого стесняться.
В ее глазах ни намека на готовность уступить, в теле – ни капли хрупкости. Маму можно сломать – но не женщину, которая ее родила. Я потихоньку отодвигаюсь от нее, вжимаю голову в плечи, расстегиваю шорты, и они падают на пол. Дальше рубашка. Ее я накидываю поверх коробок.
– Выпрямись, – велит бабушка. – Будешь так сутулиться – спина станет кривая.
На секунду я закрываю глаза. Я могла бы сейчас лежать в земле. Могла бы лежать в могиле, а бабушка наряжала бы меня на мои похороны. Но я дышу. Я жива.
– Ладно, – говорю я и забираю у нее платье.
Платье мне мало, как и той девушке, что мы вытащили из огня. Бабушка разочарованно хмыкает и за плечи разворачивает меня спиной к себе. Молния не застегнется, я абсолютно в этом уверена, но она все равно тянет за язычок.
– Втяни живот, – командует она. – Вот умница.
Молния движется наверх дюйм за дюймом, царапая кожу, пока не упирается в край воротника. Я едва могу пошевелиться. Чердак куда-то плывет, а в глазах темнеет, и я здесь и одновременно где-то еще, и я – это я и одновременно кто-то еще, и все повторяется снова и снова, и меня мутит так, что приходится упереться ладонью в стену, чтобы устоять на ногах.
– Ну-ка, – бабушка отступает от меня на шаг, – дай я на тебя посмотрю.
Я не знаю, что она надеется увидеть в тусклом свете лампочки, но послушно стою на месте, позволяя ей себя разглядеть. Пусть думает, что моя слабость вызвана не только головокружением. Пусть думает, что выбила меня из колеи, – это ничто по сравнению с маминой пижамой, ее кроватью, ее комнатой и ее домом.
– Можно снимать? – спрашиваю я, но бабушка только поджимает