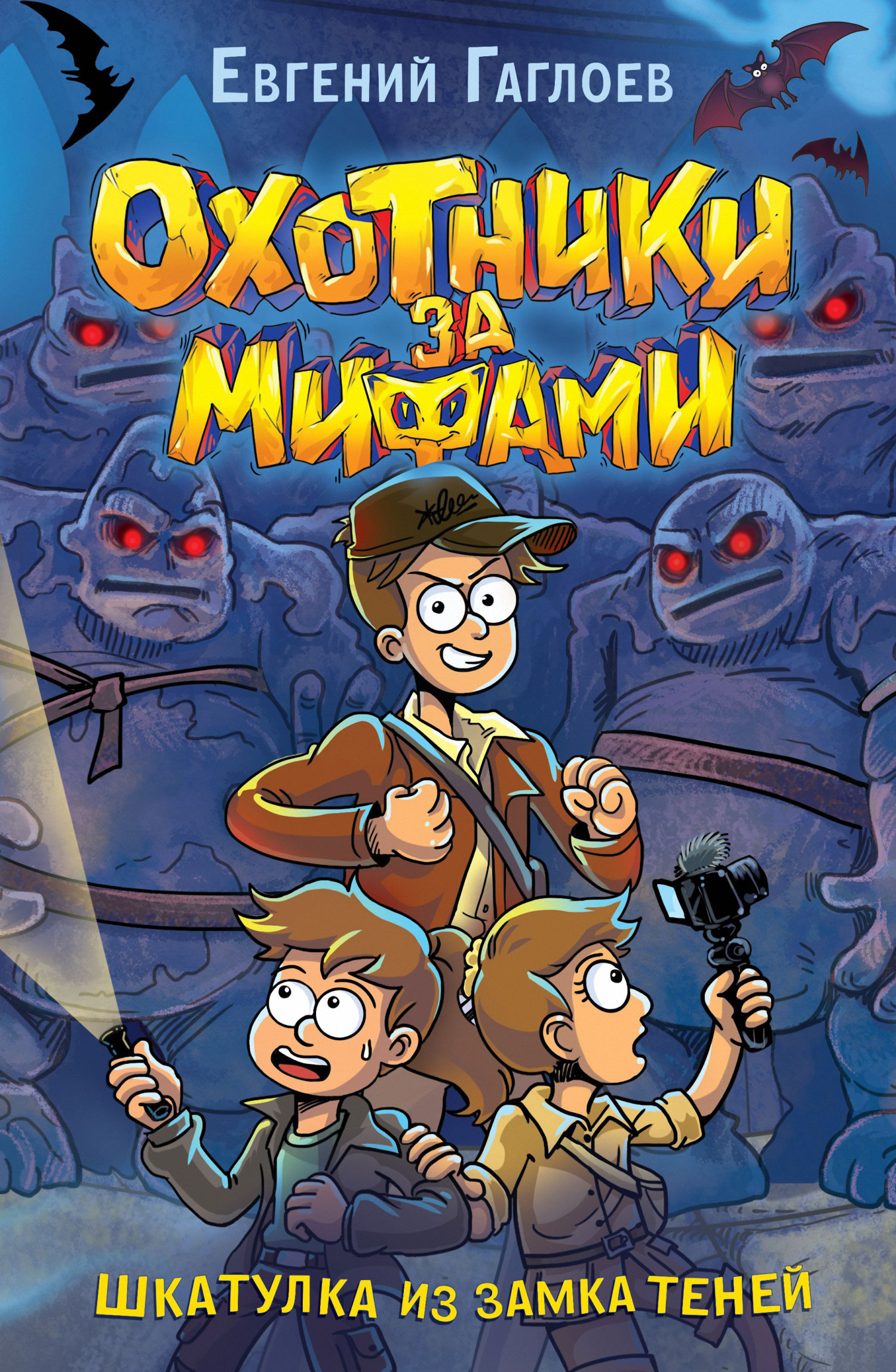не разобрать. Открыла глаза и увидела перед собой не ярмарочную площадь. Не цветастую утварь, шубки и резные деревянные игрушки на прилавках. Не чистенькие классные комнаты. И не чугунный забор. А только обеденную залу.
«Дерьмо…»
– Да ладно тебе, – фыркнула рядом Настя.
Она всё не оставляла своих расспросов. Сколько они уже просидели здесь? Минуты? Часы?
– Не пег'еживай, потрындят и отстанут. Так всегда и бывает. Вон, твою историю с умег'твием уже и забыли… Вы целовались, да?
Маришка моргнула.
«Вы целовались» – эти слова, слетевшие с губ подружки, сказаны были так деловито, будто бы… будто бы…
Они привели в чувство.
– Ты можешь мне… – тем временем продолжала Настасья.
Это было так… слишком. Всё это.
– Замолчи. – Ковальчик хотела крикнуть, а получилось какое-то сдавленное хрипение.
Жалкое. Как она сама.
– Почему? – Настя понизила голос, успокаивающе кладя ладонь Маришке на колено. Но та быстро сбросила её руку своей. – Ну пег'естань… Пг'иходится всё клещами вытягивать, ну в самом же деле…
– Ты не в себе или что? – прошипела Маришка, переводя на неё взгляд.
– Не надобно тут на мне злобу сг'ывать, – Настя скорчила такое оскорблённое лицо, что в груди Маришки заклокотала… злость?
Нет, скорее…
– Не я виновата в том, что вы не умеете пг'ятаться!
Она… Кажется, действительно ничего не понимала. Её смекалистая, хитрая, умная Настя. Порола такую чушь.
Почему?
– Я… Всевышние… – Маришка на миг прикрыла глаза.
– Ты можешь мне всё г'ассказать. Не хочу вег'ить в то, что все тут болта…
– Не хочу говорить об этом.
Ковальчик пыталась быть спокойной. Пыталась не видеть в Настином любопытстве подвоха, издёвки… Ничего такого. Этого и не могло быть, ведь Настя… никогда не была тем человеком, что издевался над ней.
– Но… – снова попыталась подружка.
И Маришка не выдержала:
– Пожалуйста! – голос был ломким, каким-то неправильным. А всё равно возглас получился громким. – Просто замолчи же уже!
Слишком громким.
Маришка не хотела бы замечать, да всё равно не получалось – гул вокруг стал стихать. Потому что теперь они… переставали разговаривать.
– Пг'екг'асно! – Настя вдруг швырнула ложку в миску, и столешница усеялась каплями похлёбки.
Теперь они слушали.
– Прекрасно! – вторила Ковальчик, с остервенением принявшись оттирать подол, на который похлёбка тоже попала.
– Я пг'осто хотела… – Настя, слава Всевышним, тоже приметила стихнувших приютских, устремивших на них свои взоры. Но это, разумеется, не заставило её саму замолчать. – Г’азве он не нг'авится тебе? Я имею в виду…
– Нравится мне? – Ковальчик резко наклонилась к самому лицу подружки, едва не сталкиваясь с ней носами. – Ты что, глухая, я не пойму? Ты слышала вообще, что они все говорят?
– Поболтают и пег'естанут! – отрезала Настя, обиженно кривя губы. – А я-то не слепая, знаешь? Я видела, как ты на него смотг'ишь.
– Я не хочу говорить об этом, поймёшь ты уже или нет?! – прошипела Маришка, уставившись прямо подружке в глаза.
Настя молча выдержала её взгляд. Долгих несколько секунд, совсем не мигая, словно неживая. Словно кукла… Затем подружка хлопнула глазами и вдруг примирительно, как ни в чем не бывало улыбнулась.
Всего доля мгновения, а лицо её вдруг так переменилось… Маришка отпрянула.
А Настины губы складывались в «а» и «о», из них вылетали слова. Сказанные тоном весёлым и беззаботным:
– А меня сегодня Александг' на чег'даке подкаг'аулил, пг'едставляешь? – она чуть понизила голос. – Я там убиг'аться должна была, а он меня ка-ак напугает! Вот же дуг'ачок…
Маришка так опешила, что перестала даже замечать гробовую тишину вокруг. Она таращилась на подружку. А происходящее казалось всё более и более неправдоподобным. Настолько, что на миг приютской подумалось:
«Хоть бы всё это было сном…»
А Настя тем временем рассказывала об их с Александром недавней встрече. Щебетала без умолку, восторженно и тихо, пока голос её не затерялся во вновь поднявшемся всеобщем гуле, когда Маришка опять погрузилась в свои невесёлые мысли.
«Умалишённая…» – промелькнуло у Ковальчик в голове.
Казалось, от пустой, возбуждённой болтовни подружку не способно было отвлечь ничто и никогда. Ковальчик отказывалась слушать её дальше. Просто не могла. И вместо того пришлось вслушиваться в мерзкую болтовню вокруг.
То ещё удовольствие.
«Мерзавка», «дрянь…» – бесконечная вереница ругательств. Ничего нового. Однако…
– Прекрати это, слышишь?
Однако Маришка сумела в какой-то момент различить приглушённое шипение Александра. Она скосила глаза на приютского, на миг подумавши, будто обратился он к ней. Но покрывшийся тёмными бурыми пятнами, он смотрел совсем не на неё. На Володю.
Маришка быстро отвела взгляд. С момента, как обнаружили их в кладовой, полнившейся мышеловами, Володя больше не сказал ей ни слова. Ни тогда, когда Анфиса, громко отчитав её в коридоре и огласив предстоящее вечером наказание, заперла девчонку в каморке – той самой, где накануне бинтовала ей ногу. Ни тогда, когда велено было выстроиться к обеду, ни на самой трапезе.
Ссутулившись над похлёбкой, он не отвечал на колкие вопросы остальных, не принимал участие в «побиении Маришки камнями» – пока словесными, но кто знал, как скоро они превратятся в настоящие удары. Он не проронил ни слова – ни в обвинение Маришки, ни в оправдание. Он молчал, и только желваки ходили на его побелевших щеках. По крайней мере тогда, когда Ковальчик на него смотрела. А она не то чтобы часто удостаивала его взглядами.
«Навье отродье…»
– Ты не понимаешь, чем это закончится? – не унимался Александр. – Скажи им заткнуться!
Но его дружок никак не реагировал. По крайней мере, краем глаза Маришка видела, что силуэт его по-прежнему неподвижен.
– Володя!
– Я сам разберусь, что мне делать! – рявкнул цыганский ублюдок в ответ.
И Маришка, как бы ни хотела сдержаться, а всё равно дёрнулась от его тона.
Володя был… в ярости?
«На меня? Он злится на меня?!»
Уголки глаз предательски защипало, а безликий гул вокруг окончательно распался на голоса. Зазвучали разборчивей фразы, слова. Которые не хотелось слышать. И Маришка зажмурилась, пытаясь вновь в голове соединить их воедино. Не слышать. Не различать. Но не получалось.
– Я не желаю есть с ней за одним столом. Это прогневит Мокошь. Господин учитель должен её отсадить!
– Пущай на полу ест, пущай словно псина…
То были девчоночьи голоса – приютская знала, от них ей придётся хуже всего. Так всегда было. Девочки… почему-то девочки особенно любили донимать «Мокошиных изменниц».
– Не смейте с ней заговаривать. Всевышняя не прощает изменниц, а коли заговоришь с нею – тоже станешь изменницей!
У Маришки чесались щёки. Она не замечала сперва. А когда прикоснулась к ним пальцами, под ногти скользнула влага. Она нащупала собственные слёзы. Она… плакала, и сама не знала, давно