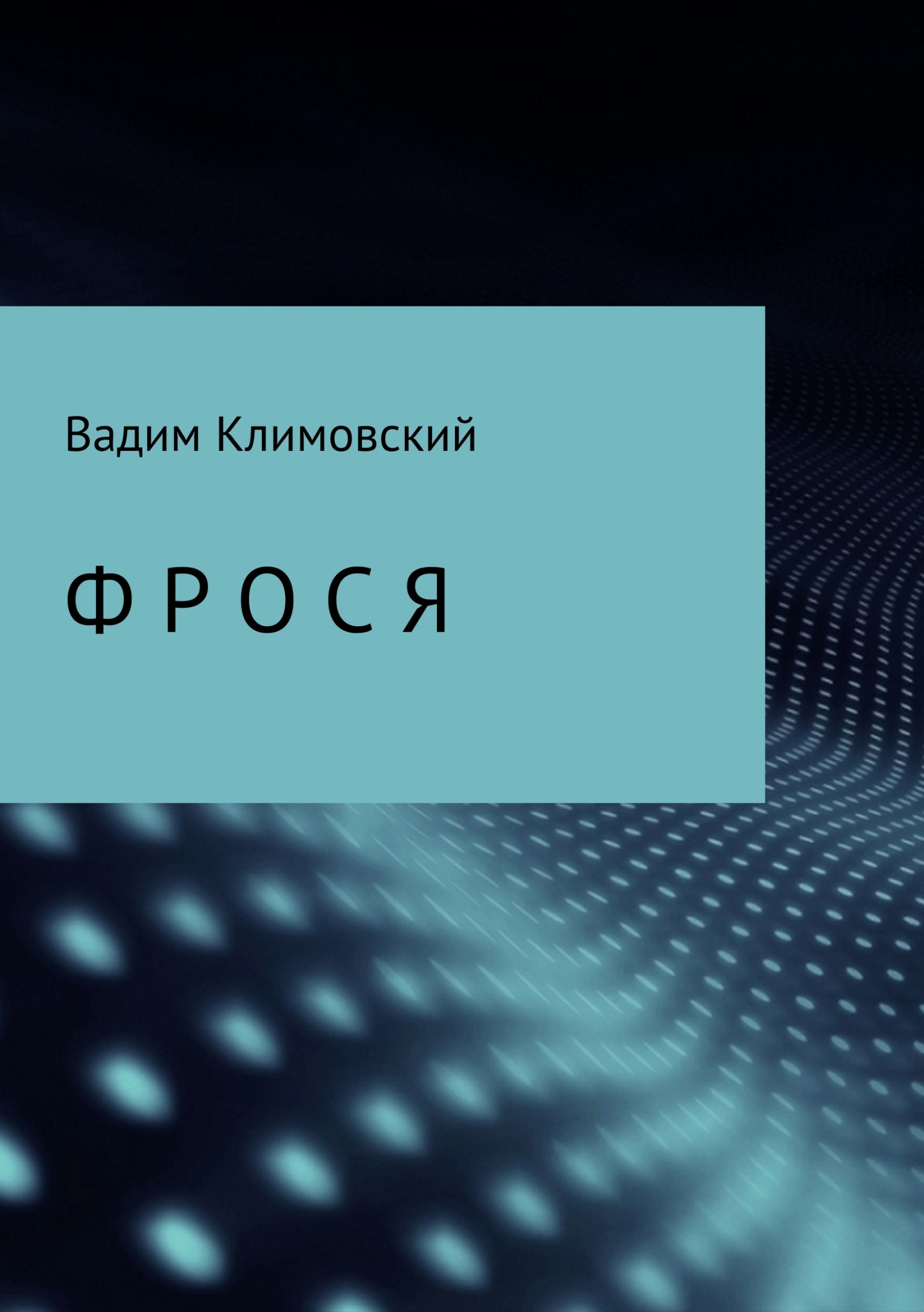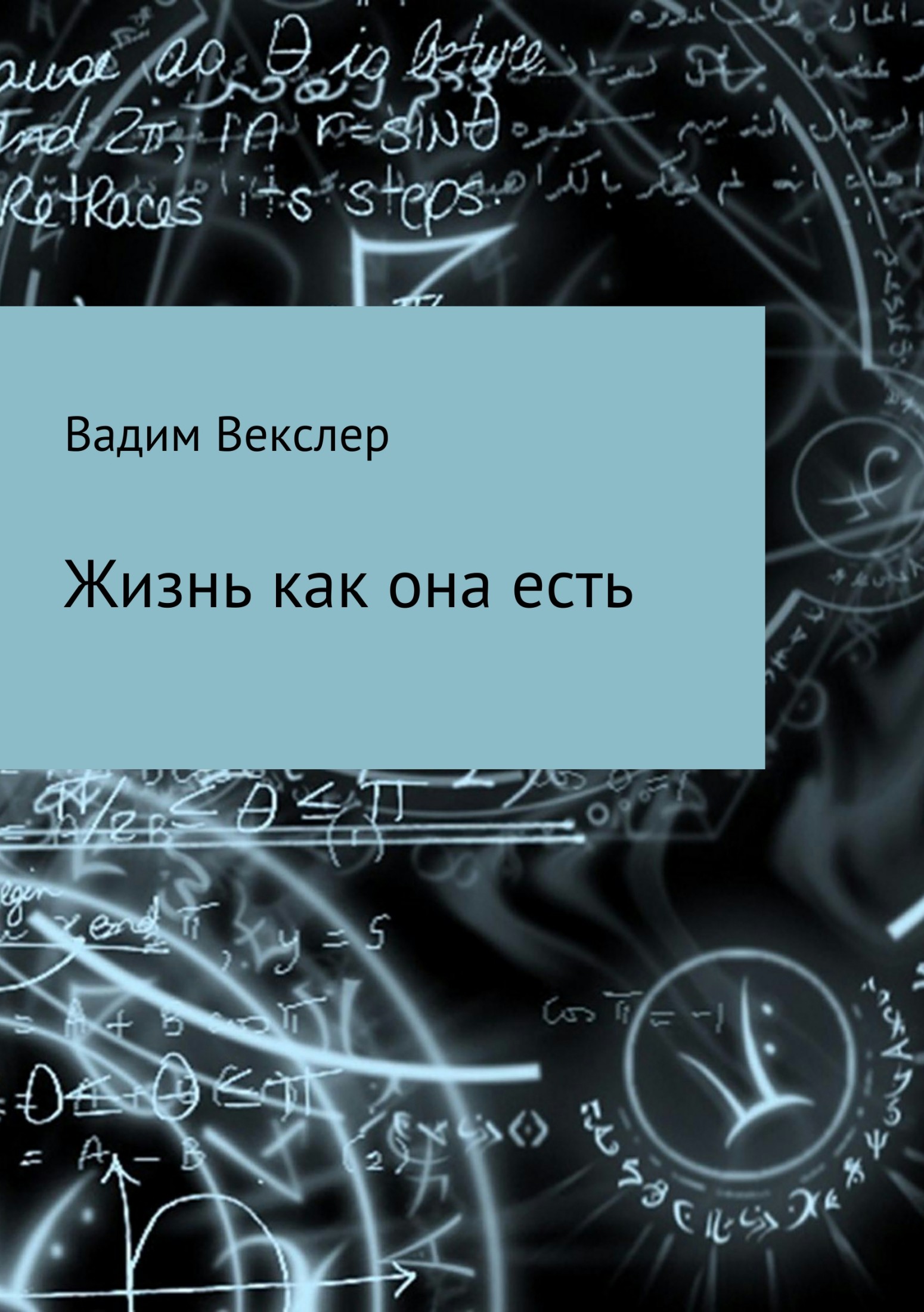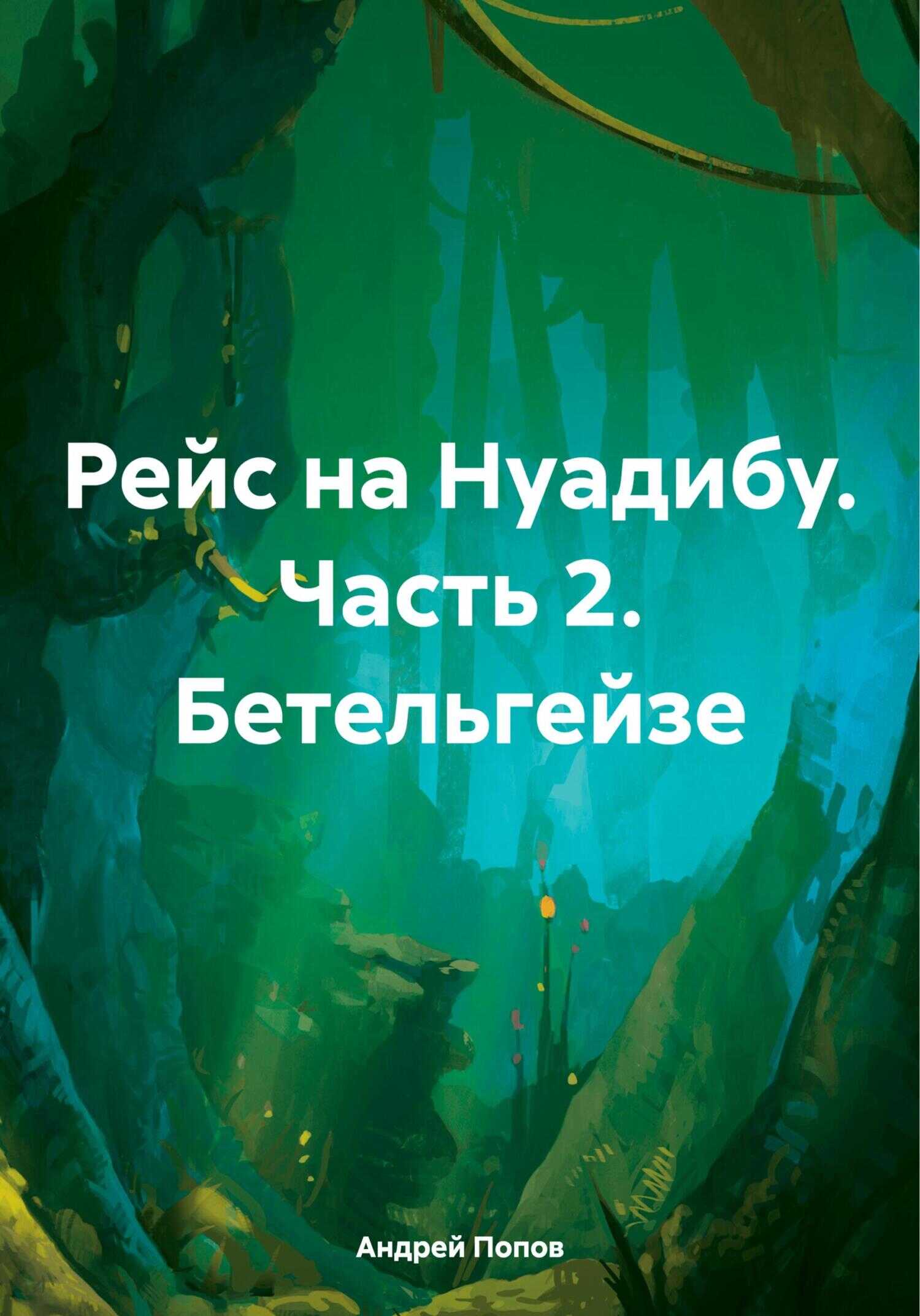К тому же скоро выяснилось, что он, и правда, плавал в молодости на торговом судне. За это «плавал» мне не раз от него крепко доставалось.
– Это говно плавает, а моряк по морю ходит! – втолковывал он мне.
Вообще, Илларионов любит ругаться, делает это с удовольствием и, как правило, не обидно. Я скоро понял, что на самом деле он и не ругается, а просто в силу характера или привычки думает и разговаривает грубостями. Правда, с дамами он умеет поменять тон.
Илларионов сидел на бульваре, недалеко от своего офиса – маленькой комнатки на первом этаже. Он считался хозяином агентства недвижимости, но я никогда не видел его за работой, кажется, он занимался только тем, что сдавал в аренду пару принадлежащих ему коммерческих помещений. Он сидел на скамейке, выставив вперед свою больную ногу так, как будто хотел поставить подножку идущим мимо пешеходам. Ветер болтал ветки дерева, под которым стояла скамейка, тени от листьев и солнечные пятна беспорядочно двигались по лицу Илларионова, и из-за этого я никак не мог понять: хмурится он или ухмыляется. Когда я подошел поближе, стало видно, что он сидит просто так, без особых эмоций на лице. Рядом с ним на скамейке лежала газета, он убрал ее и сказал:
– Садись, в ногах правды нет. Как и в газетах.
– Так, может, это правда у вас застряла там, в правой ноге? – спросил я. Раз уж Илларионов не стал сразу орать, значит, можно было и пошутить.
– Дошутишься, карась мелкий, – ответил он, но не зло, и тоже спросил:
– По поводу правды. Давай-ка расскажи мне, что случилось с моей витриной. Это случайность или нет? Если у тебя разборки с кем-то и у меня начнут тут стекла бить каждую неделю, то ты лучше съезжай от меня к чертовой матери.
Пришлось объяснять. Долгую историю Илларионов бы слушать не стал, и я решил уложить мои отношения с Витюшей в пару предложений. Тем более что вся эта история, как выяснилось, и была-то в большой степени пустой выдумкой. Теперь и самому-то было скучно рассказывать.
– Там ситуация такая: я сначала тоже решил, что это мне один человек мстит. Но потом я поговорил с этим человеком, и оказалось, что это не он. Выходит, случайность, хулиганство. Просто странно по времени сложилось – одно к одному.
– Чтобы я еще что-то понял из того, что ты сказал, – пожелал себе Илларионов, поглаживая свою негнущуюся ногу. Наверное, она у него болела. Хотя если это деревянный протез, то как он может болеть? Илларионов подумал и спросил:
– Так, значит, была все-таки у тебя какая-то заморочка? И было за что на тебя наехать? Что хоть за человек, на которого ты подумал? Я его знаю?
– Может, и знаете, – сказал я и понял, что мне даже немного приятно рассказать, с кем у меня вышло это недоразумение. Витюша – должно быть, известная в городе личность, богатая, крупная рыба, а не какой-нибудь карась мелкий. Правда, я тут же вспомнил, что эта крупная рыба меня за настоящего соперника все-таки не посчитала, и стало обидно. Но я все-таки рассказал: – Это банкир один, Виктор Парщиков.
Илларионов весь напружинился от деловитого беспокойства, даже забыл про свою ногу и спросил:
– Это который же? Николая Парщикова сын, что ли?
– Он самый, – говорю. – Виктор Николаевич.
Илларионов сложил лоб складками:
– Семейка известная. Ну ты и клоун. Это ты у него в банке, что ли, кредит взял? И что, сильно задолжал? Да нет, Антон, что-то ты мне ерунду какую-то втираешь. Где ты, а где Парщиковы! Такие люди витрины бить не будут. Они бы тебя сразу в асфальт закатали. А может, и меня вместе с тобой. Папаша-то известный был деятель на заре отечественной демократии. Первый настоящий «мерседес», который я в нашем городе увидел, это был его.
– Кредит у меня очень удачно в другом банке, – сказал я. – И там я пока почти даже в сроки укладываюсь. Ну, в основном. А с этим Виктором у меня вообще не из-за денег. Это личное. Из-за его невесты.
– Да ладно! – не поверил Илларионов и по-новому оглядел меня. – И что ты сделал?
– Ну так, потрогал ее немного, за ножку подержал. Нет, правда, больше ничего не было. Но ситуация была такая, что Виктор мог бы подумать, что могло что-то и быть. Точнее говоря, это я подумал, что он мог так подумать. Но потом мы с ним поговорили, и оказалось, что он этой ситуации не придал значения, вроде как даже не заметил ничего.
– Парщиков младший? Не придал значения тому, что ты его невесту лапал? Это как? – не понял Илларионов.
– Ну вот представьте себе музей, в котором выставлено что-нибудь красивое. Вам в музее никогда не хочется потрогать то, что там выставлено? Нет? А мне вот всегда ужасно хочется. А в тот день я оказался в кабинете у Виктора – ну почти как в музее. И там была красивая девушка. Я к ней подошел и погладил ее. А тут как раз вошел этот Виктор, и выясняется, что он директор этого музея, а девушка – это как будто там экспонат, который руками трогать нельзя. Знаете, даже песня есть такая, в которой девушка поет, что она – главный экспонат?
– Нет, не знаю, – ответил Илларионов. – Так и ты решил, что он тебе из-за девушки витрину разбил?
– Ну, я тогда подумал, что это только начало. Сначала – витрину, а потом, может, и лицо. И я решил тогда пойти к этому Виктору и объяснить, что я в его музее ничего красть не собирался и вообще оказался там просто по работе.
– Что, прямо сам к нему пошел? Ну ты даешь! Так, а Виктор что сказал?
– А он так и сказал, что сразу понял, что я здесь только прислуга.
– Скот высокомерный. Увести бы у него эту девку, – сказал Илларионов. Но потом спохватился: – Не вздумай только, Антоха! Надеюсь, у тебя мозгов хватит все это дело просто на тормозах спустить.
– Вот и мой знакомый, который в этом банке работает, мне так посоветовал, – кивнул я.
– Так, значит, ты все эти дни от Парщикова младшего прятался? – уточнил Илларионов. – Ну тогда ладно еще. А то я думал, ты меня решил на деньги кинуть. И девчонок своих, Свету и эту, как ее, маленькую, Веру. Ты, конечно, тот еще карась! Бросил все на них и свалил куда-то. Верка-то ладно, но Света ведь одна сына растит, без мужика. Ей-то каково было бы вот так с бухты-барахты работу потерять?
Илларионов вздохнул,